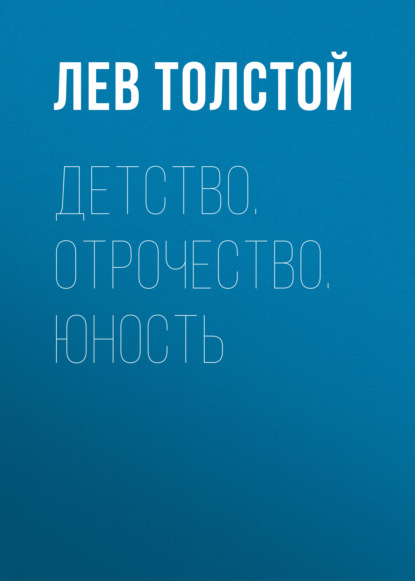По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Детство. Отрочество. Юность
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух.
– И лю-бим, как родну-ю мать, – твердил я себе под нос. – Какую бы рифму вместо мать? играть? кровать?.. Э, сойдет! все лучше карл-иванычевых!
И я написал последний стих. Потом в спальне я прочел вслух все свое сочинение с чувством и жестами. Были стихи совершенно без размера, но я не останавливался на них; последний же еще сильнее и неприятнее поразил меня. Я сел на кровать и задумался…
«Зачем я написал: как родную мать? ее ведь здесь нет, так не нужно было и поминать ее; правда, я бабушку люблю, уважаю, но все она не то… зачем я написал это, зачем я солгал? Положим, это стихи, да все-таки не нужно было».
В это самое время вошел портной и принес новые полуфрачки.
– Ну, так и быть! – сказал я в сильном нетерпении, с досадой сунул стихи под подушку и побежал примеривать московское платье.
Московское платье оказалось превосходно: коричневые полуфрачки с бронзовыми пуговками были сшиты в обтяжку – не так, как в деревне нам шивали, на рост, – черные брючки, тоже узенькие, чудо как хорошо обозначали мускулы и лежали на сапогах.
«Наконец-то и у меня панталоны со штрипками, настоящие!» – мечтал я, вне себя от радости, осматривая со всех сторон свои ноги. – Хотя мне было очень узко и неловко в новом платье, я скрыл это от всех, сказал, что, напротив, мне очень покойно, и что ежели есть недостаток в этом платье, так только тот, что оно немножко просторно. После этого я очень долго, стоя перед зеркалом, причесывал свою обильно напомаженную голову; но, сколько ни старался, я никак не мог пригладить вихры на макушке: как только я, желая испытать их послушание, переставал прижимать их щеткой, они поднимались и торчали в разные стороны, придавая моему лицу самое смешное выражение.
Карл Иваныч одевался в другой комнате, и через классную пронесли к нему синий фрак и еще какие-то белые принадлежности. У двери, которая вела вниз, послышался голос одной из горничных бабушки; я вышел, чтобы узнать, что ей нужно. Она держала на руке туго накрахмаленную манишку и сказала мне, что она принесла ее для Карла Иваныча и что ночь не спала для того, чтобы успеть вымыть ее ко времени. Я взялся передать манишку и спросил, встала ли бабушка.
– Как же-с! уж кофе откушали, и протопоп пришел. Каким вы молодчиком! – прибавила она с улыбкой, оглядывая мое новое платье.
Замечание это заставило меня покраснеть; я перевернулся на одной ножке, щелкнул пальцами и припрыгнул, желая ей этим дать почувствовать, что она еще не знает хорошенько, какой я действительно молодчик.
Когда я принес манишку Карлу Иванычу, она уже была не нужна ему: он надел другую и, перегнувшись перед маленьким зеркальцем, которое стояло на столе, держался обеими руками за пышный бант своего галстука и пробовал, свободно ли входит в него и обратно его гладко выбритый подбородок. Обдернув со всех сторон наши платья и попросив Николая сделать для него то же самое, он повел нас к бабушке. Мне смешно вспомнить, как сильно пахло от нас троих помадой в то время, как мы стали спускаться по лестнице.
У Карла Иваныча в руках была коробочка своего изделия, у Володи – рисунок, у меня – стихи; у каждого на языке было приветствие, с которым он поднесет свой подарок. В ту минуту, как Карл Иваныч отворил дверь залы, священник надевал ризу и раздались первые звуки молебна.
Бабушка была уже в зале: сгорбившись и опершись на спинку стула, она стояла у стенки и набожно молилась; подле нее стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся, заметив, как мы, заторопившись, прятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян.
Когда стали подходить к кресту, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой, одуревающей застенчивости, и, чувствуя, что у меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Иваныча, который, в самых отборных выражениях поздравив бабушку, переложил коробочку из правой руки в левую, вручил ее имениннице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе. Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, оклеенной золотыми каемками, и самой ласковой улыбкой выразила свою благодарность. Заметно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, и, должно быть, поэтому предложила папа посмотреть, как удивительно искусно она сделана.
Удовлетворив своему любопытству, папа передал ее протопопу, которому вещица эта, казалось, чрезвычайно понравилась: он покачивал головой и с любопытством посматривал то на коробочку, то на мастера, который мог сделать такую прекрасную штуку. Володя поднес своего турка и тоже заслужил самые лестные похвалы со всех сторон. Настал и мой черед: бабушка с одобрительной улыбкой обратилась ко мне.
Те, которые испытали застенчивость, знают, что чувство это увеличивается в прямом отношении времени, а решительность уменьшается в обратном отношении, то есть: чем больше продолжается это состояние, тем делается оно непреодолимее и тем менее остается решительности.
Последняя смелость и решительность оставили меня в то время, когда Карл Иваныч и Володя подносили свои подарки, и застенчивость моя дошла до последних пределов: я чувствовал, как кровь от сердца беспрестанно приливала мне в голову, как одна краска на лице сменялась другою и как на лбу и на носу выступали крупные капли пота. Уши горели, по всему телу я чувствовал дрожь и испарину, переминался с ноги на ногу и не трогался с места.
– Ну, покажи же, Николенька, что у тебя – коробочка или рисованье? – сказал мне папа. Делать было нечего: дрожащей рукой подал я измятый роковой сверток; но голос совершенно отказался служить мне, и я молча остановился перед бабушкой. Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои никуда не годные стихи и слова: как родную мать, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение и когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливою, взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда, по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала? Мне казалось, что она это сделала потому, что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того, что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет: «Дрянной мальчишка, не забывай мать… вот тебе за это!» – но ничего такого не случилось; напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала: «Charmant»[24 - Прелестно (фр.).], и поцеловала меня в лоб.
Коробочка, рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом maman на выдвижной столик вольтеровского кресла, в котором всегда сиживала бабушка.
– Княгиня Варвара Ильинишна, – доложил один из двух огромных лакеев, ездивших за каретой бабушки.
Бабушка, задумавшись, смотрела на портрет, вделанный в черепаховую табакерку, и ничего не отвечала.
– Прикажете просить, ваше сиятельство? – повторил лакей.
Глава XVII
Княгиня Корнакова
– Проси, – сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло.
Княгиня была женщина лет сорока пяти, маленькая, тщедушная, сухая и желчная, с серо-зелеными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно-умильно сложенному ротику. Из-под бархатной шляпки с страусовым пером виднелись светло-рыжеватые волосы; брови и ресницы казались еще светлее и рыжеватее на нездоровом цвете ее лица. Несмотря на это, благодаря ее непринужденным движениям, крошечным рукам и особенной сухости во всех чертах общий вид ее имел что-то благородное и энергическое.
Княгиня очень много говорила и по своей речивости принадлежала к тому разряду людей, которые всегда говорят так, как будто им противоречат, хотя бы никто не говорил ни слова: она то возвышала голос, то, постепенно понижая его, вдруг с новой живостью начинала говорить и оглядывалась на присутствующих, но не принимающих участия в разговоре особ, как будто стараясь подкрепить себя этим взглядом.
Несмотря на то, что княгиня поцеловала руку бабушки, беспрестанно называла ее ma bonne tante[25 - моя добрая тетушка (фр.).], я заметил, что бабушка была ею недовольна: она как-то особенно поднимала брови, слушая ее рассказ о том, почему князь Михайло никак не мог сам приехать поздравить бабушку, несмотря на сильнейшее желание; и, отвечая по-русски на французскую речь княгини, она сказала, особенно растягивая свои слова:
– Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность; а что князь Михайло не приехал, так что ж про то и говорить… у него всегда дел пропасть, да и то сказать, что ему за удовольствие с старухой сидеть?
И, не давая княгине времени опровергнуть ее слова, она продолжала:
– Что, как ваши детки, моя милая?
– Да, слава богу, ma tante[26 - тетушка (фр.).], растут, учатся, шалят… особенно Этьен – старший, такой повеса становится, что ладу никакого нет; зато и умен – un gar?on, qui promet[27 - мальчик, подающий надежды (фр.).]. Можете себе представить, mon cousin, – продолжала она, обращаясь исключительно к папа, потому что бабушка, нисколько не интересуясь детьми княгини, а желая похвастаться своими внуками, с тщательностию достала мои стихи из-под коробочки и стала их развертывать, – можете себе представить, mon cousin, что он сделал на днях…
И княгиня, наклонившись к папа, начала ему рассказывать что-то с большим одушевлением. Окончив рассказ, которого я не слыхал, она тотчас засмеялась и, вопросительно глядя в лицо папа, сказала:
– Каков мальчик, mon cousin? Он стоил, чтобы его высечь; но выдумка эта так умна и забавна, что я его простила, mon cousin.
И княгиня, устремив взоры на бабушку, ничего не говоря, продолжала улыбаться.
– Разве вы бьете своих детей, моя милая? – спросила бабушка, значительно поднимая брови и делая особенное ударение на слово бьете.
– Ах, ma bonne tante, – кинув быстрый взгляд на папа, добреньким голоском отвечала княгиня, – я знаю, какого вы мнения на этот счет; но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться: сколько я ни думала, сколько ни читала, ни советовалась об этом предмете, все-таки опыт привел меня к тому, что я убедилась в необходимости действовать на детей страхом. Чтобы что-нибудь сделать из ребенка, нужен страх… не так ли, mon cousin? А чего je vous demande un peu[28 - скажите на милость (фр.).], дети боятся больше, чем розги?
При этом она вопросительно взглянула на нас, и, признаюсь, мне сделалось как-то неловко в эту минуту.
– Как ни говорите, а мальчик до двенадцати и даже до четырнадцати лет все еще ребенок; вот девочка – другое дело.
«Какое счастье, – подумал я, – что я не ее сын».
– Да, это прекрасно, моя милая, – сказала бабушка, свертывая мои стихи и укладывая их под коробочку, как будто не считая после этого княгиню достойною слышать такое произведение, – это очень хорошо, только скажите мне, пожалуйста, каких после этого вы можете требовать деликатных чувств от ваших детей?
И, считая этот аргумент неотразимым, бабушка прибавила, чтобы прекратить разговор:
– Впрочем, у каждого на этот счет может быть свое мнение.
Княгиня не отвечала, но только снисходительно улыбалась, выражая этим, что она извиняет эти странные предрассудки в особе, которую так много уважает.
– Ах, да познакомьте же меня с вашими молодыми людьми, – сказала она, глядя на нас и приветливо улыбаясь.
Мы встали и, устремив глаза на лицо княгини, никак не знали: что же нужно сделать, чтобы доказать, что мы познакомились.
– Поцелуйте же руку княгини, – сказал папа.
– Прошу любить старую тетку, – говорила она, целуя Володю в волосы, – хотя я вам и дальняя, но я считаю по дружеским связям, а не по степеням родства, – прибавила она, относясь преимущественно к бабушке; но бабушка продолжала быть недовольной ею и отвечала:
– Э! моя милая, разве нынче считается такое родство?