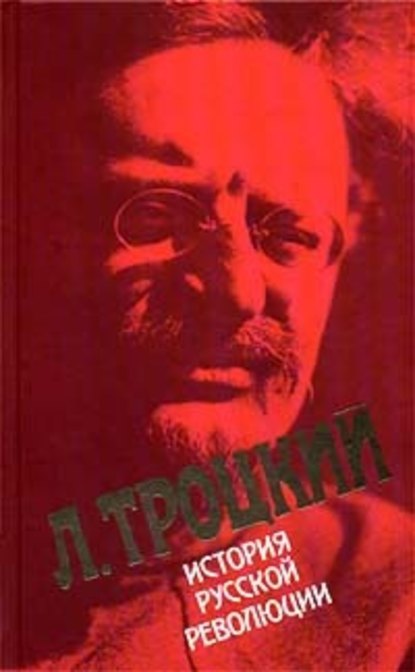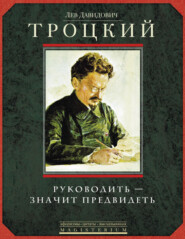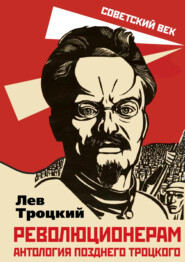По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История русской революции. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вожди буржуазии, надо отдать им справедливость, не ожидали ничего подобного. Пожалуй, они меньше боялись бы революции, если бы рассчитывали на такого рода политику со стороны ее вождей. Правда, они просчитались бы и в этом случае, но уже вместе с последними. Опасаясь все-таки, что буржуазия не согласится взять власть и на предложенных условиях, Суханов ставит грозный ультиматум: «Стихию можем сдержать или мы, или никто… Выход один: согласиться на наши условия». Другими словами: примите программу, которая есть ваша программа; за это мы обещаем вам укротить массу, которая дала нам власть. Бедные укротители стихий!
Милюков был удивлен. «Он и не думал скрывать, – вспоминает Суханов, – свое удовлетворение и свое приятное удивление». Когда же советские делегаты для пущей важности прибавили, что их условия «окончательны», Милюков даже расчувствовался и поощрил их фразой: «Да, я слушал вас и думал о том, как далеко вперед шагнуло наше рабочее движение со времени 1905 года…» Таким тоном благодушного крокодила гогенцоллернская дипломатия разговаривала в Брест-Литовске с делегатами украинской Рады, воздавая должное их государственной зрелости, прежде чем проглотить их. Если советская демократия не была проглочена буржуазией, то в этом не заслуга Суханова и не вина Милюкова.
Буржуазия получила власть за спиной народа. Она не имела в трудящихся классах никакой опоры. Но вместе с властью она получила подобие опоры из вторых рук: меньшевики и эсеры, поднятые массой наверх, вручили уже от себя мандат доверия буржуазии. Если взглянуть на эту операцию в разрезе формальной демократии, то получится картина двухстепенных выборов, в которых меньшевики и эсеры выступают в технической роли среднего звена, т. е. кадетских выборщиков. Если взять вопрос политически, то придется сказать, что соглашатели обманули доверие масс, призвав к власти тех, против кого сами были избраны. Наконец, с более глубокой, социальной точки зрения вопрос представится так: мелкобуржуазные партии, проявлявшие в будничных условиях чрезвычайную претенциозность и довольство собою, как только оказались подняты революцией на высоты власти, испугались собственной несостоятельности и поторопились передать руль представителям капитала. В этом акте прострации сразу обнаружилась ужасающая шаткость нового среднего сословия и его унизительная зависимость от крупной буржуазии. Сознавая или только чувствуя, что власть в их руках все равно долго удержаться не сможет, что придется вскоре сдавать ее направо или налево, демократы решили, что лучше сдать ее сегодня солидным либералам, чем завтра – крайним представителям пролетариата. Но и в таком освещении роль соглашателей, несмотря на свою социальную обусловленность, не перестает быть вероломной по отношению к массам.
Отдав свое доверие социалистам, рабочие и солдаты оказывались, неожиданно для себя, политически экспроприированными. Они недоумевали, тревожились, но не находили сразу выхода. Их собственные избранники оглушали их сверху аргументами, на которые они не имели готового ответа, но которые противоречили всем их чувствам и намерениям. Революционные тенденции масс уже в момент февральского переворота совершенно не совпадали с соглашательскими тенденциями мелкобуржуазных партий. Пролетарий и крестьянин голосовали за меньшевика и эсера не как за соглашателей, а как за противников царя, помещика и капиталиста. Но, голосуя за них, они создали средостение между собой и своими целями. Они не могли теперь уже продвинуться вперед, не натолкнувшись на воздвигнутое ими же средостение и не опрокинув его. Таково было поразительное qui pro quo (лат. – недоразумение. – Ред.), заложенное в классовых отношениях, как их вскрыла Февральская революция.
К основному парадоксу немедленно же присоединился дополнительный. Либералы соглашались взять власть из рук социалистов лишь при условии, что монархия согласится принять власть из их собственных рук.
В то время как Гучков с уже знакомым нам монархистом Шульгиным ездили в Псков для спасения династии, проблема конституционной монархии оказалась в центре переговоров между двумя комитетами Таврического дворца. Милюков убеждал демократов, принесших ему на ладони власть, что Романовы теперь уже не могут быть опасны, что Николай, конечно, должен быть устранен, но зато царевич Алексей при регенте Михаиле вполне могли бы обеспечить благополучие страны: «один – больной ребенок, а другой – совсем глупый человек». Прибавим еще характеристику, какую дал кандидату в цари либеральный монархист Шидловский: «Михаил Александрович всемерно уклонялся от вмешательства в какие бы то ни было дела государственные, всецело предавшись конскому спорту». Поразительная рекомендация, особенно если ее повторить перед массами. После бегства Людовика XVI в Варенн Дантон провозгласил в якобинском клубе, что, раз человек слабоумен, он не может быть королем. Русские либералы считали, наоборот, что слабоумие монарха служит лучшим украшением конституционного режима. Впрочем, это был непринужденный аргумент, рассчитанный на психологию левых простаков, но слишком все же грубый и для них. Широким кругам либеральных обывателей внушалось, что Михаил – «англоман», без уточнения, идет ли речь о скачках или о парламентаризме. А главное, необходим «привычный символ власти», иначе народ вообразит, что пришло безвластие.
Демократы слушали, вежливо удивлялись и уговаривали… провозгласить республику? Нет, только не предрешать вопроса. Пункт третий условий Исполнительного комитета гласил: «Временное Правительство не должно предпринимать никаких шагов, предрешающих будущую форму правления». Милюков сделал из вопроса о монархии ультиматум. Демократы были в отчаянии. Но тут на помощь пришли массы. На митингах Таврического дворца решительно никто, не только рабочие, но и солдаты, не хотел царя и не было никаких средств навязать его. Тем не менее Милюков пытался плыть против течения и спасать трон и династию через головы левых союзников. В своей «Истории революции» он сам осторожно отмечает, что к концу 2 марта волнение, вызванное его сообщением о регентстве Михаила, «значительно усилилось». Родзянко гораздо красочнее рисует эффект, который монархические маневры либералов вызывали в массах. Едва прибыв из Пскова с актом отречения Николая в пользу Михаила, Гучков, по требованию рабочих, отправился с вокзала в железнодорожные мастерские, изложил, что произошло, и, огласив акт отречения, закончил: «Да здравствует император Михаил!» Результат получился неожиданный. Оратор был, по рассказу Родзянко, немедленно рабочими арестован, будто бы даже с угрозами расстрела. «С большим трудом удалось освободить его при помощи дежурной роты ближайшего полка». Родзянко, как всегда, кое в чем преувеличивает, но основное изложено им правильно. Страну так радикально вырвало монархией, что она никак не могла снова пролезть народу в глотку. Революционные массы не допускали и мысли о новом царе!
Пред лицом такой конъюнктуры члены Временного комитета один за другим отодвигались от Михаила – не окончательно, а «до Учредительного собрания»: там видно будет. Только Милюков и Гучков стояли за монархию до конца и по-прежнему ставили в зависимость от этого свое участие в кабинете. Как быть? Демократы считали, что без Милюкова нельзя составить буржуазное правительство, а без буржуазного правительства нельзя спасти революцию. Пререкания и уговаривания шли без конца. В утреннем совещании 3 марта мнение о необходимости «убедить великого князя отречься», – его, следовательно, считали царем! – как будто совсем победило во Временном комитете. Левый кадет Некрасов успел составить и проект отречения. Но так как Милюков упорно не сдавался, то после новых страстных споров было наконец найдено решение: «обе стороны мотивируют перед великим князем свои мнения и, не входя в дальнейшие прения, предоставят решение самому великому князю». Таким образом, «совсем глупый человек», которому низложенный восстанием старший брат, в противоречии даже с династическим статутом, пытался подкинуть трон, оказался неожиданно суперарбитром в вопросе о государственном устройстве революционной страны. Как это ни невероятно, но состязательный процесс о судьбах государства состоялся. Чтобы побудить великого князя оторваться от конюшен для трона, Милюков заверил его, что имеется полная возможность вне Петрограда собрать военную силу для защиты его прав. Другими словами, едва успев получить власть из рук социалистов, Милюков выдвинул план монархического coup d'etat. По окончании речей «за» и «против», которых было немало, великий князь попросил время на размышление. Пригласив к себе в другую комнату Родзянко, Михаил спросил его в упор: гарантируют ли ему новые властители только корону или также и голову? Несравненный камергер ответил, что может лишь обещать монарху умереть в случае нужды с ним вместе. Это претендента совершенно не устраивало. Выйдя после объятий с Родзянко к ожидавшим его депутатам, Михаил Романов «довольно твердо» заявил, что отказывается от предложенной ему высокой, но рискованной должности. Тогда Керенский, олицетворявший в этих переговорах совесть демократии, восторженно привскочил со стула со словами: «Ваше Высочество, Вы – благородный человек!» – и поклялся, что отныне будет всюду заявлять это. «Пафос Керенского, – сухо комментирует Милюков, – плохо гармонировал с прозой принятого решения». Нельзя не согласиться. Для пафоса текст этой интермедии действительно не оставлял места. Сделанное выше сравнение с водевилем в углу античной арены приходится дополнить указанием на то, что сцена оказалась разделена ширмами на две половины: в одной революционеры упрашивали либералов спасти революцию, в другой либералы умоляли монархию спасти либерализм.
Представители Исполнительного комитета искренно недоумевали, почему такой просвещенный и дальновидный человек, как Милюков, упрямится из-за какой-то там монархии и даже готов отказаться от власти, если ему, в придачу к ней, не дадут Романова. Монархизм Милюкова не был, однако, ни доктринерским, ни романтическим; наоборот, он вытекал из обнаженного расчета перепуганных собственников. В его обнаженности и состояла его безнадежная слабость. Историк Милюкова мог, правда, сослаться на то, что вождь французской революционной буржуазии Мирабо также стремился в свое время примирить революцию с королем. В основе и там был страх собственников за собственность: осторожнее было прикрыть ее монархией, как монархия прикрывала себя церковью. Но в 1789 году традиция королевской власти во Франции имела еще всенародное признание, не говоря о том, что вся окружающая Европа была монархической. Держась за короля, французская буржуазия оставалась еще на общей почве с народом, по крайней мере в том смысле, что пользовалась против него его же предрассудками. Совсем иным было положение в России в 1917 году. Помимо крушений и аварий монархического режима в разных странах мира сама русская монархия была непоправимо надломлена уже в 1905 году. После 9 января поп Гапон проклял царя и его «змеиное отродье». Совет рабочих депутатов 1905 года стоял открыто на почве республики. Монархические чувства крестьянства, на которые сама монархия долго рассчитывала и ссылкой на которые буржуазия прикрывала свой монархизм, оказались попросту несуществующими. Поднимавшаяся в дальнейшем воинственная контрреволюция, начиная с Корнилова, хоть и лицемерно, но тем более демонстративно отрекалась от царской власти: так мало оставалось монархических корней в народе. Но та же революция 1905 года, которая смертельно ранила монархию, навсегда подорвала неустойчивые республиканские тенденции «передовой» буржуазии. Противореча друг другу, эти два процесса дополняли друг друга. Чувствуя себя с первых часов Февральской революции утопающей, буржуазия хваталась за соломинку. Монархия ей нужна была не потому, что это было ее общее верование с народом; наоборот, буржуазия не могла уже ничего противопоставить верованиям народа, кроме коронованного фантома. «Образованные» классы России выступили на арене революции не как глашатаи рационального государства, а как защитники средневековых учреждений. Не имея опоры ни в народе, ни в себе самих, они искали ее над собою. Архимед брался перевернуть землю, если ему дадут точку опоры. Милюков, наоборот, искал точку опоры, чтобы охранить помещичью землю от переворота. Он чувствовал себя при этом гораздо ближе с наиболее заскорузлыми царскими генералами и иерархами православной церкви, чем с теми ручными демократами, которые ни о чем так не заботились, как о благорасположении либералов. Не будучи в силах сломить революцию, Милюков твердо решил перехитрить ее. Он готов был проглотить многое: гражданские свободы для солдат, демократические муниципалитеты. Учредительное собрание, но при одном условии: чтобы ему была предоставлена архимедова точка в виде монархии. Он рассчитывал постепенно и шаг за шагом сделать монархию осью группировки генералитета, подновленной бюрократии, князей церкви, собственников, всех недовольных революцией и, начав с «символа», создавать постепенно реальную монархическую узду на массы, по мере того как последние будут уставать от революции. Только бы выиграть время! Другой руководитель кадетской партии, Набоков, объяснил позже, какое капитальное преимущество было бы достигнуто при согласии Михаила на трон: «Устранен был бы роковой вопрос о созыве Учредительного собрания во время войны». Эти слова надо запомнить: борьба из-за сроков Учредительного собрания занимала между февралем и октябрем большое место, причем кадеты категорически отрицали свое намерение оттянуть созыв народного представительства, очень настойчиво и упорно проводя политику проволочек на деле. Увы, им приходилось при этом опираться только на себя: монархического прикрытия они так-таки и не получили. После дезертирства Михаила Милюков не мог уже хвататься и за соломинку.
НОВАЯ ВЛАСТЬ
Оторванная от народа, связанная гораздо теснее с иностранным финансовым капиталом, чем с трудящимися массами собственной страны, враждебная революции, которая одержала победу, запоздалая русская буржуазия не могла от собственного имени найти ни одного довода в пользу своих претензий на власть. Между тем обоснование необходимо было, ибо революция подвергает немилосердной проверке не только унаследованные права, но и новые притязания. Меньше всего способен был предъявить убедительные для массы доводы председатель Временного комитета Родзянко, в первые дни после переворота оказавшийся во главе революционной страны.
Камер-паж при Александре II, офицер кавалергардского полка, губернский предводитель дворянства, камергер Николая II, монархист насквозь, богатый помещик и земский деятель, член партии октябристов, депутат Государственной думы, Родзянко был затем выбран ее председателем. Это произошло после сложения с себя полномочий Гучковым, которого как «младотурка» ненавидели при дворе: Дума надеялась, что через посредство камергера легче найдет доступ к сердцу монарха. Родзянко делал, что мог: нелицемерно заверял царя в своей преданности династии, выпрашивал как милости быть представленным наследнику и рекомендовался последнему как «самый большой и толстый человек в России». Несмотря на все это византийское скоморошество, камергер не завоевал царя для конституции и царица кратко именовала Родзянко в письмах мерзавцем. Во время войны председатель Думы, несомненно, доставлял немало неприятных минут царю, загоняя его при личных докладах в угол размашистыми увещаниями, патриотической критикой и мрачными пророчествами. Распутин считал Родзянко личным врагом. Близкий к дворцовой банде Курлов говорит о присущем Родзянко «нахальстве при несомненной ограниченности». Витте отзывался о председателе Думы снисходительнее, но немногим лучше: «человек неглупый, довольно толковый; но все-таки главное качество Родзянко заключается не в его уме, а в голосе – у него отличный бас». Родзянко пытался сперва победить революцию при помощи пожарной кишки; плакал, когда узнал, что правительство князя Голицына бежало с поста; отказывался с ужасом от власти, которую принесли ему социалисты; потом решил взять ее, но как верноподданный, чтобы при первой возможности вернуть монарху утерянный предмет. Не вина Родзянко, если такой возможности не представилось. Зато революция, при содействии тех же социалистов, доставила камергеру широкую возможность громыхать басом перед восставшими полками. Уже 27 февраля отставной кавалергардский ротмистр Родзянко говорил прибывшему в Таврический дворец кавалерийскому полку: «Православные воины, послушайте моего совета. Я старый человек, я вас обманывать не стану – слушайте офицеров, они вас дурному не научат и будут распоряжаться в полном согласии с Государственной думой. Да здравствует святая Русь!» Такую революцию готовы были принять все гвардейские офицеры. Зато солдаты недоумевали, зачем нужно было производить ее. Родзянко боялся солдат, боялся рабочих, считал Чхеидзе и других левых немецкими агентами и, возглавляя революцию, поминутно оглядывался, не арестует ли его Совет.
Фигура Родзянко несколько смехотворна, но не случайна: камергер отличным басом олицетворял собою союз двух правящих классов России: помещиков и буржуазии – с присоединением к ним прогрессивного духовенства; сам Родзянко был очень благочестив и сведущ в церковных песнопеньях, а либеральные буржуа, независимо от своего отношения к православию, считали союз с церковью столь же необходимым для порядка, как и союз с монархией.
На почтенном монархисте, получившем власть от заговорщиков, мятежников и тираноубийц, не было в те дни лица. Другие члены Комитета чувствовали себя немногим лучше. Некоторые из них вообще не появлялись в Таврическом дворце, считая положение недостаточно определившимся. Наиболее мудрые ходили на цыпочках вокруг костра революции, кашляли от дыма и говорили себе: пускай перегорит, тогда попробуем что-нибудь изжарить. Согласившись взять власть. Комитет не сразу решился сформировать министерство. «В ожидании, когда наступит момент образования правительства», – как выражается Милюков, Комитет ограничился назначением комиссаров из членов Думы в высшие правительственные учреждения: это еще оставляло возможность отступления.
В министерство внутренних дел был отправлен незначительный, но, может быть, менее других трусливый депутат Караулов, который 1 марта издал приказ об аресте всех чинов наружной и тайной полиции и корпуса жандармов. Этот грозный революционный жест имел чисто платонический характер, так как полиция была арестована до всяких приказов и тюрьма была для нее единственным убежищем от расправы. Значительно позже реакция усматривала в демонстративном акте Караулова начало всех дальнейших бедствий.
Комендантом Петрограда назначен был полковник Энгельгардт, офицер гвардейского полка, владелец скаковых конюшен и крупный землевладелец. Вместо того чтобы арестовать «диктатора» Иванова, прибывшего с фронта для усмирения столицы, Энгельгардт отправил в его распоряжение реакционного офицера в качестве начальника штаба: в конце концов, это были свои люди.
В министерство юстиции послано было светило московской либеральной адвокатуры, красноречивый и пустой Маклаков, который прежде всего дал понять реакционным бюрократам, что не хочет быть министром милостью революции, и, «оглянувшись на вошедшего товарища – курьера», сказал по-французски: «le danger est a gauche» (опасность слева. – Ред.).
Рабочим и солдатам не нужно было знать по-французски, чтобы почувствовать во всех этих господах своих лютых врагов.
Родзянко во главе Комитета пошумел, однако, недолго. Его кандидатура в председатели революционного правительства отпала сама собою: посредник между собственниками и монархией слишком уж явно не годился в посредники между собственниками и революцией. Но он не сошел со сцены, упрямо пытаясь оживить Думу как противовес Совету и неизменно оставаясь в центре всех попыток сплочения буржуазно-помещичьей контрреволюции. Мы еще о нем услышим.
1 марта Временный комитет приступил к формированию министерства, выдвинув в его состав тех самых людей, которых Дума начиная с 1915 года неоднократно рекомендовала царю, как пользующихся доверием страны, – это были крупные аграрии и промышленники, оппозиционные депутаты Думы, вожди прогрессивного блока. Факт таков, что произведенный рабочими и солдатами переворот на составе революционного правительства, за одним исключением, не отразился вовсе. Исключением был Керенский. Амплитуда Родзянко-Керенский есть официальная амплитуда Февральской революции.
Керенский вошел в правительство как бы в качестве ее полномочного посла. Между тем его отношение к революции было отношением провинциального адвоката, выступавшего в политических процессах. Керенский не был революционером, он лишь терся около революции. Попав впервые в четвертую Думу благодаря своему легальному положению, Керенский стал председателем серой и безличной фракции трудовиков, которая являлась анемичным плодом политического скрещивания либерализма с народничеством. Ни теоретической подготовки, ни политической школы, ни способности к обобщающему мышлению, ни политической воли у него не было. Все эти качества заменялись беглой восприимчивостью, легкой воспламеняемостью и тем красноречием, которое действует не на мысль или волю, а на нервы. Выступления в Думе в духе декламаторского радикализма, который не испытывал недостатка в поводах, создали Керенскому если не популярность, то известность. Во время войны Керенский в качестве патриота считал вместе с либералами самую идею революции гибельной. Он признал революцию, когда она пришла и, зацепившись за его подобие популярности, так легко подняла его наверх. Переворот, естественно, отождествлялся для него с новой властью. Исполнительный комитет решил, однако, что в буржуазной революции власть должна принадлежать буржуазии. Эта формула казалась Керенскому фальшивой уже по одному тому, что захлопывала перед ним двери министерства. Керенский был вполне основательно убежден, что его социализм не помешает буржуазной революции, как и последняя не нанесет ущерба его социализму. Временный комитет Думы решил попытаться оторвать радикального депутата от Совета и достиг этого без труда, предложив ему портфель министра юстиции, от которого успел уже отказаться Маклаков. Керенский ловил в кулуарах друзей и спрашивал: брать или не брать? Друзья не сомневались, что Керенский решил взять. Суханов, весьма расположенный к Керенскому в тот период, подметил у него, правда по позднейшим воспоминаниям, "уверенность в какой-то своей миссии… и величайшее раздражение против всех, кто об этой миссии еще не догадывался, В конце концов друзья, в том числе и Суханов, советовали Керенскому взять портфель: так будет все-таки надежнее, через своего человека можно будет знать, что делается у этих хитрых либералов. Но, толкая Керенского шепотом на грехопадение, к которому он и без того стремился изо всех сил, лидеры Исполкома отказывали ему в официальной санкции. Ведь Исполнительный комитет уже высказался, напоминал Суханов Керенскому, а ставить снова вопрос в Совете «небезопасно», ибо Совет может попросту ответить: «Власть должна принадлежать советской демократии». Таков дословный рассказ самого Суханова – невероятное сочетание наивности и цинизма. Вдохновитель всей мистерии власти открыто признает, что уже 2 марта Петроградский Совет был настроен в пользу формального взятия власти, которая ему фактически принадлежала с вечера 27 февраля, и что только за спиною рабочих и солдат, без их ведома и вопреки их действительной воле, социалистические вожди могли экспроприировать власть в пользу буржуазии. Сделка демократов с либералами приобретает в рассказе Суханова все необходимые юридические признаки преступления против революции – именно тайного заговора против власти народа и его прав.
По поводу нетерпения Керенского руководители Исполнительного комитета шушукались о неудобстве для социалиста официально брать кусочек власти из рук думцев, которые только что получили всю власть из рук социалистов. Лучше пусть Керенский сделает это на свою ответственность. Поистине эти господа каким-то безошибочным инстинктом находили из всякого положения как можно более запутанный и фальшивый выход. Но Керенский не хотел войти в правительство в пиджаке радикального депутата; ему нужен был плащ уполномоченного победоносной революции. Чтобы не натолкнуться на сопротивление, он не обращался за санкцией ни к той партии, членом которой он себя провозгласил, ни в Исполнительный комитет, где он числился товарищем председателя. Не предупреждая руководителей, он на пленарном заседании Совета, представлявшем в те первые дни еще хаотический митинг, потребовал слова для внеочередного заявления и в речи, которую одни называют сумбурной, другие истерической, в чем, впрочем, нет противоречия, требовал к себе доверия и говорил о своей общей готовности умереть за революцию и о более непосредственной готовности взять портфель министра юстиции. Достаточно было упоминания о необходимости полной политической амнистии и суда над царскими сановниками, чтобы вызвать бурные аплодисменты неопытного и никем не руководимого собрания. «Этот фарс, – вспоминает Шляпников, – вызвал у многих глубокое возмущение и отвращение к Керенскому». Но никто ему не возражал: передав власть буржуазии, социалисты, как мы уже знаем, избегали поднимать этот вопрос перед массой. Голосования не было. Керенский решил истолковать аплодисменты как мандат доверия. По-своему он был прав. Совет несомненно был за вступление социалистов в министерство, видя в этом шаг к ликвидации буржуазного правительства, с которым он ни на минуту не мирился. Так или иначе, опрокинув официальную доктрину власти, Керенский дал 2 марта согласие на пост министра юстиции. «Своим назначением, – рассказывает октябрист Шидловский, – он был очень доволен, и я отлично помню, как в помещении Временного комитета он, лежа в кресле, горячо говорил о том, на какой недосягаемый пьедестал он поставит в России юстицию». Действительно, он это показал через несколько месяцев в процессе против большевиков.
Меньшеьик Чхеидзе, которому либералы, руководствуясь слишком несложным расчетом и международной традицией, хотели навязать в трудную минуту министерство труда, категорически отказался и остался председателем Совета депутатов. Менее блестящий, чем Керенский, Чхеидзе сделан был все же из более серьезного материала.
Осью Временного правительства, хотя формально и не главой, стал Милюков, бесспорный лидер кадетской партии. «Милюков был вообще несоизмерим с прочими своими товарищами по кабинету, – писал кадет Набоков после того, как уже порвал с Милюковым, – как умственная сила, как человек огромных, почти неисчерпаемых знаний и широкого ума». Суханов, вменявший Милюкову в личную вину крушение русского либерализма, писал вместе с тем: «Милюков был тогда центральной фигурой, душой и мозгом всех буржуазных политических кругов… Без него не было бы никакой буржуазной политики в первый период революции». При всей своей чрезмерной приподнятости эти отзывы отмечают неоспоримое превосходство Милюкова над другими политиками русской буржуазии. Его сила состояла в том же, в чем и слабость: он полнее и законченное других выражал на языке политики судьбу русской буржуазии, то есть ее историческую безвыходность. Если меньшевики плакались, что Милюков погубил либерализм, то с большим основанием можно бы сказать, что либерализм погубил Милюкова.
Несмотря на подогретый им в империалистических целях неославизм, Милюков всегда оставался буржуазным западником. Целью своей партии он ставил торжество в России европейской цивилизации. Но чем дальше, тем больше он боялся тех революционных путей, какими шли западные народы. Его западничество свелось поэтому к бессильной зависти Западу.
Английская и французская буржуазия строила новое общество по образу своему. Германская пришла позже, и ей пришлось в течение долгого времени сидеть на овсяном отваре философии. Немцы выдумали слово «миросозерцание», которого нет ни у англичан, ни у французов: в то время как западные нации создали новый мир, немцы созерцали его. Но немецкая буржуазия, убогая в политическом действии, создала классическую философию – и это немалый вклад. Русская пришла еще позже. Правда, она перевела немецкое слово «миросозерцание» на русский язык, притом в нескольких вариантах, но этим только ярче обнаружила наряду с политической импотенцией убийственную философскую скудость. Она импортировала идеи, как и технику, установив для последней высокие пошлины, а для первых – карантин страха. Этим чертам своего класса и призван был давать политическое выражение Милюков.
Бывший московский профессор истории, автор значительных научных трудов, затем основатель кадетской партии, слившейся из союза либеральных помещиков и союза левых интеллигентов, Милюков был совершенно свободен от той несносной, отчасти барской, отчасти интеллигентской черты политического дилетантизма, которая свойственна большинству русских либеральных политиков. Милюков относился к своей профессии очень серьезно, и это одно его выделяло.
Русские либералы до 1905 года обычно стеснялись быть либералами. Налет народничества, а позже марксизма долго служил для них необходимой защитной окраской. В этой стыдливой, по существу очень неглубокой капитуляции довольно широких буржуазных кругов, в том числе и ряда молодых промышленников, перед социализмом выражался недостаток внутренней уверенности у класса, который явился достаточно своевременно, чтобы сосредоточить в своих руках миллионы, но слишком поздно, чтобы стать во главе нации. Бородатые отцы, разбогатевшие мужики и лавочники, накопляли, не размышляя о своей общественной роли. Сыновья кончали университеты в период предреволюционного брожения идей, и когда пытались найти свое место в обществе, то не спешили стать под знамя либерализма, уже изношенное передовыми странами, полинялое и все в заплатах. В течение некоторого времени они отдавали революционерам часть своей души и даже частицу своих доходов. В еще большей степени это относится к представителям свободных профессий: в значительной своей части они проходили в молодые годы через полосу социалистических симпатий. Профессор Милюков никогда не болел корью социализма. Он был органическим буржуа и не стыдился этого.
Правда, в эпоху первой революции Милюков не совсем еще отказался от надежды опереться на революционные массы через посредство прирученных социалистических партий. Витте рассказывает, что на требование, которое он во время формирования своего конституционного кабинета в октябре 1905 года обратил к кадетам: «отсечь революционный хвост», те ответили ему, что они так же не могут отказаться от вооруженных сил революции, как сам Витте – от армии. По существу дела, это и тогда уже был шантаж: чтобы поднять себе цену, кадеты запугивали Витте массами, которых боялись сами. Именно на опыте 1905 года Милюков убедился, что, как бы ни были сильны либеральные симпатии социалистических групп интеллигенции, подлинные силы революции – массы – никогда не отдадут своего оружия буржуазии и, чем лучше окажутся вооружены, тем более будут для нее опасны. Открыто провозгласив, что красное знамя есть красная тряпка, Милюков с явным облегчением ликвидировал роман, которого, в сущности, серьезно никогда не начинал. Оторванность так называемой «интеллигенции» от народа составляла одну из традиционных тем русской журналистики, причем либералы, в противоположность социалистам, под интеллигенцией понимали все «образованные», то есть имущие, классы. После того как эта оторванность катастрофически разверзлась перед либералами во время первой революции, идеологи «образованных» классов жили как бы в постоянном ожидании страшного суда. Один из либеральных писателей, философ, не связанный условностями политики, выразил страх перед массой с такой исступленной силой, которая напоминает эпилептическую реакционность Достоевского: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ограждает нас от ярости народной». При таком политическом самочувствии можно ли было либералам мечтать о руководстве революционной нацией? Вся политика Милюкова отмечена печатью безнадежности. В момент национального кризиса возглавляемая им партия думает о том, как уклониться от удара, а не о том, как нанести его.
Как писатель Милюков тяжеловесен, многословен и утомителен. Таков же он и в качестве оратора. Декоративность ему несвойственна. Это могло бы быть плюсом, если бы скаредная политика Милюкова так явно не нуждалась в маскировке или если бы у него было по крайней мере объективное прикрытие в виде великой традиции; но у него не было и малой. Официальная политика во Франции, квинтэссенция буржуазного эгоизма и вероломства, имеет два могущественных подспорья: традицию и риторику. Помножаясь друг на друга, они окутывают защитным покровом каждого буржуазного политика, даже такого прозаического клерка крупных собственников, как Пуанкаре. Не вина Милюкова, если у него не оказалось патетических предков и если политику буржуазного эгоизма ему пришлось проводить на рубеже Европы и Азии.
«Наряду с симпатиями к Керенскому, – читаем мы в воспоминаниях эсера Соколова о Февральской революции, – с самого начала существовала большая, ничем не прикрытая и по-своему странная антипатия к Милюкову. Мне не было понятно, да непонятно и теперь, почему этот почтенный общественный деятель был так непопулярен?» Если бы филистеры поняли причину своего восхищения Керенским и своей нелюбви к Милюкову, они перестали бы быть филистерами. Буржуазный обыватель не любил Милюкова потому, что Милюков слишком прозаично и трезвенно, без прикрас выражал политическую сущность русской буржуазии. Глядя на себя в милюковское зеркало, буржуа видел, что он сер, корыстен, труслив, и, как это обычно бывает, обижался на зеркало.
Замечая со своей стороны недовольные гримасы либерального буржуа, Милюков спокойно и уверенно говорил: «обыватель глуп». Он произносил эти слова без раздражения, чуть не с лаской, желая сказать: если сегодня обыватель не понимает меня, не беда, поймет позже. В Милюкове жила основательная уверенность в том, что буржуа его не выдаст и, повинуясь логике положения, потянется за ним, Милюковым, ибо больше ему некуда идти. И действительно: после февральского переворота все буржуазные партии, даже правые, шли за кадетским вождем, поругивая и даже проклиная его.
Иначе обстояло дело с демократическим политиком социалистической окраски, с каким-нибудь Сухановым. Это был не простой обыватель, наоборот, профессиональный политик, достаточно изощренный в своем маленьком ремесле. «Умным» этот политик не мог казаться, ибо слишком било в глаза постоянное противоречие между тем, чего он хотел, и тем, к чему приходил. Но он умничал, путал и надоедал. Чтобы повести его за собою, надо было обмануть его, не только признавая за ним полную самостоятельность, но даже обвиняя его в избытке командования, в самовластии. Это льстило ему и примиряло с ролью услужающего. Именно в беседе с этими социалистическими умниками Милюков и бросил свою фразу: «обыватель глуп». Это была тонкая лесть: «умны только мы с вами». На самом же деле Милюков именно в этот момент вдевал демократическим друзьям кольцо в нос. С этим кольцом они и были впоследствии сброшены.
Личная непопулярность не позволила Милюкову стать во главе правительства: он взял иностранные дела, которые составляли его специальность и в Думе.
Военным министром революции оказался уже знакомый нам крупный московский промышленник Гучков, в молодости либерал с авантюристской складкой, затем доверенное лицо крупной буржуазии при Столыпине в период разгрома первой революции. Роспуск двух первых дум, где господствовали кадеты, привел к государственному перевороту 3 июня 1907 года с целью изменения избирательного права в пользу партии Гучкова, руководившей затем двумя последними думами до самой революции. При открытии в Киеве в 1911 году памятника Столыпину, убитому террористом, Гучков, возлагая венок, молча склонился до земли – это был жест от имени класса. В Думе Гучков посвящал себя главным образом вопросам «военной мощи» и в подготовке войны шел рука об руку с Милюковым. В качестве председателя центрального военно-промышленного комитета Гучков сплачивал промышленников под знаменем патриотической оппозиции, отнюдь не препятствуя в то же время заправилам прогрессивного блока, включая и Родзянко, греть руки на военных поставках. Революционной рекомендацией Гучкова была связанная с его именем полулегенда о подготовке дворцового переворота. Бывший шеф полиции утверждал сверх того, что Гучков «позволял себе в частных разговорах о монархе применять к нему в высокой степени оскорбительный эпитет». Это вполне вероподобно. Но Гучков не составлял на этот счет исключения. Благочестивая царица ненавидела Гучкова, расточала по его адресу грубые ругательства в письмах и выражала надежду, что он будет повешен «на высоком дереве». Впрочем, у царицы многие были для этого на виду. Так или иначе, но тот, кто до земли кланялся палачу первой революции, оказался военным министром второй.
Министром земледелия назначен был кадет Шингарев, провинциальный врач, ставший затем депутатом Думы. Ближайшие единомышленники по партии считали его честной посредственностью или, как выразился Набоков, «русским провинциальным интеллигентом, рассчитанным не на государственный, а на губернский или уездный масштаб». Неопределенный радикализм молодых лет успел давно выветриться, и главной заботой Шингарева стало показать имущим классам свою государственную зрелость. Хотя старая кадетская программа говорила о «принудительном отчуждении помещичьих земель по справедливой оценке», но никто из собственников не брал этой программы всерьез, особенно теперь, в годы военной инфляции, и Шингарев видел главную свою задачу в том, чтобы затормозить разрешение аграрной проблемы, обнадеживая крестьян миражем Учредительного собрания, которого кадеты не хотели созывать. На земельном вопросе и на вопросе войны Февральской революции предстояло свернуть себе шею. Шингарев помог ей в этом, чем мог. Портфель финансов получил молодой человек по фамилии Терещенко. «Откуда взяли его?» – спрашивали друг друга с удивлением в Таврическом дворце. Осведомленные люди объясняли, что это – владелец сахарных заводов, имений, лесов и прочих несметных богатств, оцениваемых в 80 миллионов рублей золотом, председатель военно-промышленного комитета в Киеве, с хорошим французским произношением, и сверх того знаток балета. Прибавляли еще многозначительно, что Терещенко, в качестве наперсника Гучкова, почти участвовал в великом заговоре, который должен был низложить Николая II. Революция, которая помешала заговору, помогла Терещенко.
В течение пяти февральских дней, когда на холодных улицах столицы разыгрывались революционные бои, перед нами тенью промелькнула несколько раз фигура либерала из сановной семьи, сына бывшего царского министра Набокова, почти символическая в своей самодовольной корректности и эгоистической черствости. Решающие дни восстания Набоков проводил в четырех стенах канцелярии или семьи «в тупом и тревожном ожидании». Теперь он стал управляющим делами Временного правительства, фактически министром без портфеля. В берлинской эмиграции, где его убила шальная пуля белогвардейца, он оставил не лишенные интереса записки о Временном правительстве. Вменим ему это в заслугу.
Но мы забыли назвать премьера, которого, впрочем, все забывали в наиболее серьезные моменты его короткого премьерства. 2 марта, рекомендуя митингу Таврического дворца новое правительство, Милюков назвал князя Львова «воплощением русской общественности, гонимой царским режимом». Позднее, в своей «Истории революции» Милюков осторожно замечает, что во главе правительства был поставлен князь Львов, «мало известный лично большинству членов Временного Комитета». Историк пытается здесь снять с политика ответственность за выбор. На самом деле князь давно числился в кадетской партии, на ее правом крыле. После роспуска первой Думы на знаменитом заседании депутатов в Выборге, обратившемся к населению с ритуальным призывом обиженного либерализма не платить налогов, князь Львов присутствовал, но не подписал воззвания. Набоков вспоминает, что тотчас по приезде в Выборг князь заболел, причем болезнь его «приписывалась тому волнению, в котором он находился». По-видимому, князь не был создан для революционных потрясений. Будучи весьма умеренным, князь Львов, в силу политического безразличия, походившего на широту взглядов, терпел во всех возглавлявшихся им организациях большое число левых интеллигентов, бывших революционеров, социалистических патриотов, укрывавшихся от войны. Они работали не хуже чиновников, не воровали и в то же время создавали князю подобие популярности. Князь, богач и либерал – это импонировало среднему буржуа. Князя Львова намечали поэтому в премьеры еще при царе. Если свести сказанное воедино, то придется признать, что глава правительства Февральской революции представлял собою хотя и сиятельное, но заведомо пустое место. Родзянко был бы, во всяком случае, колоритнее.
Легендарная история русского государства начинается с рассказа летописи о том, как делегаты славянских племен отправились к скандинавским князьям с просьбой: «Приходите владеть и княжить нами». Злополучные представители социалистической демократии превратили историческую легенду в быль не в IX веке, а в XX, с той разницей, что обратились не к заморским князьям, а ко внутренним. Так в результате победоносного восстания рабочих и солдат у власти оказались несколько богатейших помещиков и промышленников, ничем ровно не замечательных, политических дилетантов без программы, с не любящим волнений князем во главе.
Состав правительства был с удовлетворением встречен в союзных посольствах, в буржуазных и бюрократических салонах и в более широких слоях средней и отчасти мелкой буржуазии. Князь Львов, октябрист Гучков, кадет Милюков – эти имена звучали успокоительно. Имя Керенского, может быть, и заставляло морщиться союзников, но не пугало. Более дальновидные понимали:
в стране все же революция; при столь надежном кореннике, как Милюков, резвая пристяжная может быть только полезна. Так должен был рассуждать французский посол Палеолог, любивший русские метафоры.
В среде рабочих и солдат состав правительства породил сразу враждебные чувства или, в лучшем случае, глухое недоумение. Имена Милюкова или Гучкова не могли вызвать ни одного приветственного возгласа не только на фабрике, но и в казарме. На этот счет сохранились немалочисленные свидетельства. Офицер Мстиславский передает угрюмую тревогу солдат по поводу того, что власть от царя перешла к князю: стоило ли из-за этого кровь проливать? Станкевич, принадлежавший к интимному кружку Керенского, обходил 3 марта свой саперный батальон, роту за ротой, и рекомендовал новое правительство, которое сам он считал лучшим из всех возможных и о котором говорил с большим воодушевлением. «Но в аудитории чувствовался холодок». Лишь когда оратор называл Керенского, солдаты «вспыхивали истинным удовлетворением». К этому времени общественное мнение столичного мещанства успело уже превратить Керенского в центрального героя революции. Солдаты в гораздо большей степени, чем рабочие, хотели видеть в Керенском противовес буржуазному правительству и лишь недоумевали, почему он там один. Но Керенский был не противовесом, а дополнением, прикрытием, украшением. Он защищал те же интересы, что и Милюков, но при вспышках магния.
* * *
Какова была реальная конституция страны с учреждением новой власти?
Монархическая реакция попряталась по щелям. Как только схлынули первые воды потопа, собственники всех видов и направлений сгруппировались под знаменем кадетской партии, которая сразу оказалась единственной несоциалистической партией и в то же время крайней правой на открытой арене.
Массы шли повально к социалистам, которые сливались в их сознании с советами. Не только рабочие и солдаты огромных тыловых гарнизонов, но и весь разношерстный мелкий люд городов, ремесленники, уличные торговцы, маленькие чиновники, извозчики, дворники, прислуга всех видов, чуждались Временного правительства и его канцелярий, искали власти поближе, подоступнее. Все в большем числе появлялись в Таврическом дворце крестьянские ходоки. Массы вливались в советы, как в триумфальные ворота революции. Все, что оставалось за пределами советов, как бы отваливалось от революции и казалось принадлежащим к другому миру. Так оно и было: за пределами советов оставался мир собственников, в котором все краски смешались сейчас в один серовато-розовый защитный цвет.
Не вся трудовая масса выбирала советы, не вся она пробудилась одновременно, не все слои угнетенных посмели сразу поверить, что переворот касается и их.
У многих в сознании тяжело ворочалась лишь нечленораздельная надежда. В советы устремилось все активное в массах, а во время революции более чем когда-либо активность побеждает; и так как массовая активность росла со дня на день, то база советов непрерывно расширялась. Это и была единственно реальная база революции.
В Таврическом дворце были две половины: Дума и Совет. Исполнительный комитет первоначально теснился в каких-то тесных канцеляриях, через которые протекал непрерывный человеческий поток. Депутаты Думы пытались чувствовать себя хозяевами в своих парадных помещениях. Но перегородки скоро были снесены половодьем революции. Несмотря на всю нерешительность своих руководителей. Совет непреодолимо расширялся, а Дума оттеснялась на задворки. Новое соотношение сил всюду прокладывало себе дорогу.
Депутаты в Таврическом дворце, офицеры в своих полках, командующие в своих штабах, директора и администраторы на заводах, на железных дорогах, на телеграфе, помещики или управляющие в имениях – все чувствовали себя с первых дней революции под недоброжелательным и неутомимым надзором массы. Совет был в глазах этой массы организованным выражением ее недоверия ко всем тем, которые ее угнетали. Наборщики ревниво следили за текстом набираемых статей, железнодорожные рабочие тревожно и бдительно наблюдали за воинскими поездами, телеграфисты вчитывались по-новому в текст телеграмм, солдаты переглядывались при каждом подозрительном движении офицера, рабочие выбрасывали с завода черносотенного мастера и брали под надзор либерального директора. Дума с первых часов революции, а Временное правительство с первых ее дней стали резервуаром, в который стекались жалобы и обиды общественных верхов, их протесты против «эксцессов», их горестные наблюдения и мрачные предчувствия.