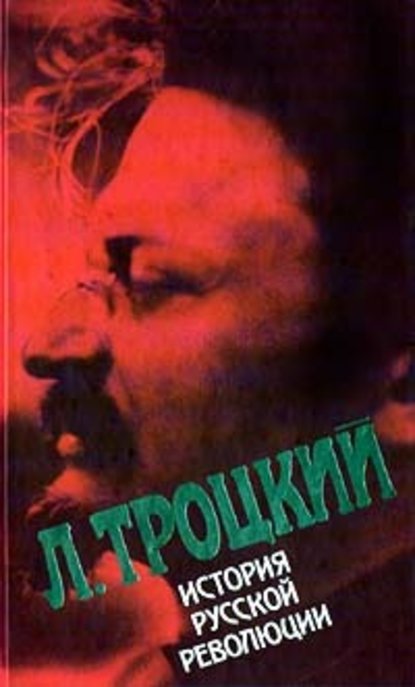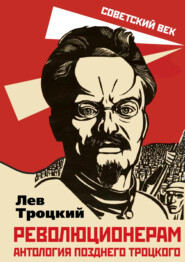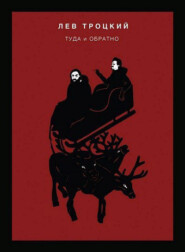По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История русской революции. Том II, часть 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако в смысле непосредственного воздействия на деревню еще большее значение имели солдаты. Только в искусственных условиях фронта или городской казармы молодые крестьяне, преодолевая до известной степени свою разобщенность, становились лицом к лицу с проблемами национального масштаба. Политическая несамостоятельность давала, однако, знать себя и здесь. Неизменно подпадая под руководство патриотических и консервативных интеллигентов и стремясь освободиться от них, крестьяне пытались сплотиться в армии особо от других социальных групп. Власти относились к таким поползновениям неблагожелательно, военное министерство противодействовало, эсеры не шли навстречу, советы крестьянских депутатов прививались в армии слабо. Даже при самых благоприятных условиях крестьянин не в силах превратить свое подавляющее количество в политическое качество!
Только в крупных революционных центрах, под прямым воздействием рабочих, советы крестьян-солдат успели развернуть значительную работу. Так, крестьянский Совет в Петрограде с апреля 1917 по 1 января 1918 года послал в деревню 1395 агитаторов, которым были выданы специальные мандаты; столько же примерно выехало без мандатов. Делегаты объехали 65 губерний. В Кронштадте среди матросов и солдат создавались по примеру рабочих землячества, которые выдавали делегатам удостоверения в «праве» на бесплатный проезд по железным дорогам и на судах. Частные дороги принимали такие свидетельства безропотно, на казенных возникали конфликты.
Официальные делегаты организаций были все же каплями в крестьянском океане. Неизмеримо большую работу выполнили те сотни тысяч и миллионы солдат, которые самовольно покидали фронт и тыловые гарнизоны, унося в ушах крепкие лозунги митинговых речей. Молчуны на фронте становились у себя в деревне говорунами. Недостатка в жадных слушателях не было. «Среди крестьянства, окружавшего Москву, – рассказывает один из московских большевиков, Муралов, – происходил громадный сдвиг влево… Московские села и деревни кишели дезертирами с фронта. Туда же проникал и столичный пролетарий, не порвавший еще связи с деревней». Дремавшую калужскую деревню, по рассказу крестьянина Наумченкова, «разбудили солдаты, прибывавшие с фронта по разным причинам в период июня-июля». Нижегородский комиссар доносил, что «все правонарушения и беззакония имеют связь с появлением в пределах губернии дезертиров, отпускных солдат или делегатов от полковых комитетов». Главноуправляющий имениями княгини Барятинской Золотоношского уезда жалуется в августе на самоуправство земельного комитета, где председательствует кронштадтский матрос Гатран. «Прибывшими в отпуск солдатами и матросами, – доносит комиссар Бугульминского уезда, – ведется агитация с целью создать анархию и погромное настроение». «В Мглинском уезде, в селе Белогош, приехавший матрос самовольно запретил заготовку и вывозку дров и шпал из леса». Если не солдаты начинали борьбу, то они ее заканчивали. В Нижегородском уезде мужики теснили женский монастырь, косили луга, разломали заборы, не давали монашкам проходу. Настоятельница не сдавалась, милиционеры увозили мужиков на расправу. «Так дело тянулось, – пишет крестьянин Арбеков, – до прихода солдат. Фронтовики сразу взяли быка за рога»: монастырь был очищен. В Могилевской губернии, по словам крестьянина Бобкова, «солдаты, которые вернулись с фронта домой, были первыми вожаками в комитетах и руководили изгнанием помещиков».
Фронтовики вносили в дело тяжелую решимость людей, привыкших обращаться с винтовкой и штыком против человека. Даже солдатские жены перенимали от мужей боевые настроения. «В сентябре, – рассказывает пензенский крестьянин Бегишев, – сильное было движение баб-солдаток, которые выступали на судах за разгром». То же наблюдалось в других губерниях. Солдатки и в городах являлись нередко бродилом.
Таких случаев, когда во главе крестьянских беспорядков оказывались солдаты, приходилось, по подсчету Верменичева, в марте – 1 %, в апреле – 8, в сентябре – 13, в октябре – 17 %. Такой подсчет не может претендовать на точность; но общую тенденцию он указывает безошибочно. Умеряющее руководство эсеровских учителей, писарей и чиновников заменялось руководством ни перед чем не останавливающихся солдат.
Выдающийся в свое время немецкий марксистский писатель Парвус, который сумел во время войны приобрести богатство, но растерять принципы и проницательность, сравнивал русских солдат со средневековыми ландскнехтами, грабителями и насильниками. Для этого нужно было не видеть, что, при всех своих бесчинствах, русские солдаты оставались лишь исполнительным органом величайшей в истории аграрной революции.
Пока движение не порывало окончательно с легальностью, посылка войск в деревни сохраняла символический характер. Применять на деле в качестве усмирителей можно было почти только казаков. «В Сердобский уезд отправлено 400 казаков… Эта мера подействовала успокоительно. Крестьяне заявляют, что будут ждать Учредительного собрания», – пишет 11 октября либеральное «Русское слово». 400 казаков – несомненный довод за Учредительное собрание! Но казаков не хватало, к тому же и они расшатывались. Между тем правительство вынуждалось все чаще принимать «решительные меры». В первые четыре месяца Верменичев насчитывает 17 случаев посылки военной силы против крестьян; в июле и августе – 39 случаев, в сентябре и октябре – 105 случаев.
Усмирять крестьян вооруженной силой значило заливать пожар маслом. Солдаты в большинстве случаев переходили на сторону крестьян. Уездный комиссар Подольской губернии доносит: «Войсковые организации и даже отдельные части разрешают социальные и экономические вопросы, заставляют (?) крестьян производить захваты и рубить лес, а иногда, местами, сами участвуют в грабежах… Местные войсковые части отказываются принимать участие в прекращении насилий…». Так восстание деревни разрушало последние скрепы в армии. Не могло быть и речи о том, чтобы в условиях крестьянской войны, возглавленной рабочими, армия позволила себя бросить против восстания в городах.
От рабочих и солдат крестьяне впервые узнавали новое, не то, что им говорили эсеры, о большевиках. Лозунги Ленина и его имя проникают в деревню. Все учащающиеся жалобы на большевиков имеют, однако, во многих случаях вымышленный или преувеличенный характер: помещики надеются таким путем вернее добиться помощи. «В Островском уезде полная анархия вследствие пропаганды большевизма». Из Уфимской губернии: «Член волостного комитета Васильев распространяет программу большевиков и открыто заявляет, что помещики будут повешены». Ищущий «защиты от грабежа» новгородский помещик Полонник не забывает присовокупить: «исполнительные комитеты переполнены большевиками»; это значит – недоброжелателями помещика. «В августе, – вспоминает симбирский крестьянин Зуморин, – по селам стали ездить рабочие, агитировали за партию большевиков, рассказали об ее программе». Следователь Себежского уезда ведет дело о прибывшей из Петрограда ткачихе Татьяне Михайловой, 26 лет, которая призывала в своем селе «к свержению Временного правительства и восхваляла тактику Ленина». В Смоленской губернии к концу августа, как свидетельствует крестьянин Котов, «Лениным стали интересоваться, к голосу Ленина стали прислушиваться»… В волостные земства все еще, однако, выбираются в громадном большинстве эсеры.
Большевистская партия старается ближе подойти к крестьянину. 10 сентября Невский требует от Петроградского комитета приступить к изданию крестьянской газеты: «Надо поставить дело так, чтобы не пережить того, что пережила французская коммуна, когда крестьянство не поняло Парижа, а Париж не понял крестьянства». Газета «Бедного» стала вскоре выходить. Но чисто партийная работа в крестьянстве оставалась все же незначительной. Сила большевистской партии была не в технических средствах, не в аппарате, а в правильной политике. Как воздушные течения разносят семена, так вихри революции разносили идеи Ленина.
«К сентябрю месяцу, – вспоминает тверской крестьянин Воробьев, – на собраниях все чаще и смелее в защиту большевиков начинают выступать уже не фронтовики, а сами крестьяне-бедняки…» «Среди бедноты и некоторых середняков, – подтверждает симбирский крестьянин Зуморин, – имя Ленина не сходило с уст, только и разговору было о Ленине». Новгородский крестьянин Григорьев рассказывает о том, как эсер в волости назвал большевиков «захватчиками» и «предателями». Как загудели мужики: «Долой собаку, бей его булыжником! Сказки нам не говори – где земля? Довольно! Давай большевика!» Возможно, впрочем, что этот эпизод – таких и подобных было немало – относится уже к послеоктябрьскому периоду: в крестьянских воспоминаниях крепко стоят факты, но слаба хронология.
Солдаты Чиненова, привезшего к себе в Орловскую губернию сундук с большевистской литературой, родная деревня встретила неприветливо: наверно, германское золото. Но в октябре «волостная ячейка имела до 700 членов, много винтовок и всегда шла на защиту советской власти». Большевик Врачев рассказывает, как крестьяне чисто земледельческой Воронежской губернии, «очнувшись от эсеровского угара, стали интересоваться нашей партией, благодаря чему мы уже имели немало сельских и волостных ячеек, подписчиков на свои газеты и принимали многих ходоков в тесном помещении своего комитета». В Смоленской губернии, по воспоминаниям Иванова, «в деревнях большевики были очень редки, в уездах их было очень мало, газет большевистских не было, листки издавались очень редко… И тем не менее, чем ближе было к октябрю, тем деревня все более и более поворачивала к большевикам…».
«В тех уездах, где до октября было большевистское влияние в советах, – пишет тот же Иванов, – стихия разгрома помещичьих имений или не проявлялась, или проявлялась в слабой степени». Дело, однако, обстояло на этот счет не везде одинаково. «Требования большевиков о передаче земли крестьянам, – рассказывает, например, Тадеуш, – особенно быстро воспринимались массой крестьян Могилевского уезда, которые громили имения, а некоторые жгли, забирали покосы, леса». Противоречия между этими показаниями, в сущности, нет. Общая агитация большевиков, несомненно, питала гражданскую войну в деревне. Но там, где большевики успевали пустить более прочные корни, они, естественно, стремились, не ослабляя крестьянского натиска, упорядочить его формы и уменьшить разрушения.
Земельный вопрос не стоял особняком. Крестьянин страдал, особенно в последний период войны, как продавец и как покупатель: хлеб у него забирали по твердым ценам, продукты промышленности становились все недоступнее. Проблема экономического соотношения деревни и города, которой предстоит впоследствии под именем «ножниц» стать центральной проблемой советского хозяйства, показывает уже свой грозный облик. Большевики говорили крестьянину: советы должны взять власть, передать тебе землю, кончить войну, демобилизовать промышленность, установить рабочий контроль над производством, регулировать взаимоотношение цен промышленных и земледельческих продуктов. Как ни суммарен был этот ответ, но он намечал путь. «Средостением между нами и крестьянством, – говорил Троцкий 10 октября на конференции завкомов, – являются авксентьевские советчики. Нужно пробить эту стену. Нужно объяснить деревне, что все попытки рабочего помочь крестьянину снабжением деревни сельскохозяйственными орудиями будут безрезультатны до тех пор, пока не будет установлен рабочий контроль над организованным производством». В этом духе конференция выпустила манифест к крестьянам.
Петроградские рабочие создали тем временем на заводах особые комиссии, которые собирали металл, браковочные части и обрезки в распоряжение специального центра «Рабочий – крестьянину». Лом шел на выделку простейших земледельческих орудий и запасных частей. Это первое плановое вторжение рабочих в ход производства, еще незначительное по объему, с перевесом агитационных целей над экономическими, приоткрывало, однако, перспективу близкого будущего. Испуганный вторжением большевиков в заповедную область деревни крестьянский Исполнительный комитет сделал попытку овладеть новым начинанием. Но тягаться с большевиками на городской арене было совсем уже не под силу одряхлевшим соглашателям, которые и в деревне теряли почву под ногами.
Эхо агитации большевиков «настолько взбудоражило бедняцкое крестьянство, – писал впоследствии тверской крестьянин Воробьев, – что можно определенно сказать: не будь Октября в октябре, он был бы в ноябре». Эта красочная характеристика политической силы большевизма не находится ни в каком противоречии с фактом его организационной слабости. Через такие острые диспропорции только и может прокладывать себе дорогу революция. Именно поэтому, к слову сказать, ее движение невозможно вогнать в рамки формальной демократии. Чтобы аграрный переворот мог совершиться в октябре или ноябре, крестьянству не оставалось ничего другого, как использовать расползающуюся ткань все той же партии эсеров. Левые ее элементы спешно и беспорядочно группируются под натиском крестьянского восстания, тянутся за большевиками и соперничают с ними. В течение ближайших месяцев политический сдвиг крестьянства пойдет главным образом под лоскутным знаменем левых эсеров: эта эфемерная партия становится отраженной и неустойчивой формой деревенского большевизма, временным мостом от крестьянской войны к пролетарскому перевороту.
Аграрная революция нуждалась в собственных органах на местах. Как они выглядели? В деревне существовали организации нескольких типов: государственные, как исполнительные комитеты волостей, земельные и продовольственные комитеты; общественные, как советы; чисто политические, как партии; наконец органы самоуправления в лице волостного земства. Крестьянские советы успели развернуться только в губернском, отчасти в уездном масштабе; волостных советов было мало. Волостные земства туго прививались. Наоборот, земельные и исполнительные комитеты, по замыслу, государственные органы, становились, как это ни странно на первый взгляд, органами крестьянской революции.
Главный земельный комитет, состоявший из чиновников, помещиков, профессоров, ученых-агрономов, эсеровских политиков, с примесью сомнительных крестьян являлся, по существу, центральным тормозом аграрной революции. Губернские комитеты не переставали быть проводниками правительственной политики. Комитеты в уездах качались между крестьянами и начальством. Зато волостные комитеты, выбиравшиеся крестьянами и работавшие тут же, на глазах села, становились орудием аграрного движения. То обстоятельство, что члены комитетов обычно причисляли себя к эсерам, не меняло дела: они равнялись по мужицкой избе, а не по дворянской усадьбе. Крестьяне особенно ценили государственный характер своих земельных комитетов, видя в нем своего рода патент на гражданскую войну.
«Крестьяне говорят, что, кроме волостного комитета, они никого не признают, – жалуется уже в мае один из начальников милиции Саранского уезда, – все же уездные и городские комитеты работают-де на руку землевладельцам». По словам нижегородского комиссара, «попытки некоторых волостных комитетов бороться с самовольными действиями крестьян почти всегда оканчиваются неудачей и ведут за собой смену всего состава». «Комитеты всегда были, по словам псковского крестьянина Денисова, на стороне крестьянского движения против помещиков, так как в них же и была избрана самая революционная часть крестьянства и солдаты-фронтовики».
В уездных и особенно губернских комитетах руководила чиновничья «интеллигенция», стремившаяся сохранять мирные отношения с помещиками. «Крестьяне видели, – пишет московский крестьянин Юрков, – что это та же самая шуба, но вывернутая, та же самая власть, но переименованная». «Наблюдается, – доносит курский комиссар, – стремление… к переизбранию уездных комитетов, которые неуклонно проводят в жизнь распоряжения Временного правительства». Однако добраться до уездного комитета крестьянину было очень трудно: политическую связь сел и волостей обеспечивали эсеры, так что крестьянам приходилось действовать через партию, главная миссия которой состояла в выворачивании старой шубы.
Изумляющая на первый взгляд холодность крестьянства к мартовским советам имела на самом деле глубокие причины. Совет представляет не специальную, как земельный комитет, а универсальную организацию революции. Но в области общей политики крестьянин шагу не может ступить без руководства. Весь вопрос в том, откуда оно исходит. Губернские и уездные крестьянские советы строились по инициативе и в значительной мере на средства кооперации не как органы крестьянской революции, а как орудия консервативной опеки над крестьянством. Деревня терпела над собою право эсеровские советы как щит против власти. У себя дома она предпочитала земельные комитеты.
Чтобы помешать деревне замкнуться в круг «чисто крестьянских интересов», правительство торопило с созданием демократических земств. Уже это одно должно было заставить мужика насторожиться. Выборы приходилось нередко навязывать. «Были случаи правонарушений, – доносит пензенский комиссар, – вследствие чего выборы срывались». В Минской губернии крестьяне арестовали председателя волостной избирательной комиссии князя Друцкого-Любецкого, обвинив его в подмене списков: нелегко было мужикам сговориться с князем о демократическом разрешении векового спора. Бугульминский уездный комиссар доносит: «Выборы в волостные земства по уезду прошли не совсем планомерно… Состав выборных гласных исключительно крестьянский, заметно отчуждение от местной интеллигенции, особенно землевладельцев». В таком виде земства немногим отличались от комитетов. «К интеллигенции и особенно к землевладельцам, – жалуется минский губернский комиссар, – отношение со стороны крестьянской массы отрицательное». В могилевской газете от 23 сентября можно прочитать: «Интеллигентская работа в деревне сопряжена с риском, если категорически не обещать содействовать немедленной передаче всей земли крестьянам». Где соглашение, даже общение между основными классами становится невозможным, там исчезает почва для учреждений демократии. Мертворожденность волостных земств безошибочно предвещала крушение Учредительного собрания.
«У местного крестьянства, – доносил нижегородский комиссар, – укрепилось сознание, что все гражданские законы утратили свою силу и что все правоотношения теперь должны регулироваться крестьянскими организациями». Распоряжаясь на местах милицией, волостные комитеты издавали местные законы, устанавливали арендные цены, регулировали заработную плату, ставили в имениях своих управляющих, забирали в свои руки землю, покосы, леса, инвентарь, отбирали у помещиков оружие, производили обыски и аресты. Голос столетий и свежий опыт революции одинаково говорили мужику, что вопрос о земле есть вопрос силы. Для аграрного переворота нужны были органы крестьянской диктатуры. Мужик не знал еще этого латинского слова. Но мужик знал, чего хочет. Та «анархия», на какую жаловались помещики, либеральные комиссары и соглашательские политики, была на самом деле первым этапом революционной диктатуры в деревне.
Необходимость создания особых чисто крестьянских органов земельного переворота на местах Ленин отстаивал еще во время событий 1905–1906 годов. «Крестьянские революционные комитеты, – доказывал он на съезде партии в Стокгольме, – есть единственный путь, которым только и может идти крестьянское движение». Мужик не читал Ленина. Но зато Ленин хорошо читал в мыслях мужика.
Деревня меняет свое отношение к советам только к осени, когда сами советы меняют свой политический курс. Большевистские и левоэсеровские советы в уездном или губернском городе уже не сдерживают крестьян, наоборот, толкают их вперед. Если в первые месяцы деревня искала у соглашательских советов легального прикрытия, чтобы затем прийти во враждебное столкновение с ними, то теперь она в революционных советах впервые стала находить настоящее руководство. Саратовские крестьяне писали в сентябре: «Власть должна перейти по всей России в руки… советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Так будет надежнее». Только к осени крестьянство начинает связывать свою земельную программу с лозунгом власти советов. Но и здесь еще оно не знает, кто и как эти советы направит. Аграрные волнения имели в России свою большую традицию, свою простую, но яркую программу, своих местных мучеников и героев. Грандиозный опыт 1905 года не прошел бесследно и для деревни. К этому надо прибавить работу сектантской мысли, охватывавшей миллионы крестьян. «Я знавал, – пишет осведомленный автор, – многих крестьян, воспринявших… Октябрьскую революцию, как прямое осуществление своих религиозных чаяний». Из всех известных историй крестьянских восстаний движение русского крестьянства 1917 года было, несомненно, в наибольшей мере оплодотворено политическими идеями. Если оно тем не менее оказалось неспособно создать самостоятельное руководство и взять в собственные руки власть, то причины этого заложены в органической природе изолированного мелкого и рутинного хозяйства: высасывая из мужика все соки, оно не наделяло его взамен способностью обобщения.
Политическая свобода крестьянина означает на практике свободу выбирать между разными городскими партиями. Но и этот выбор не производится априорно. Своим восстанием крестьянство толкает большевиков к власти. Но, только завоевав власть, большевики смогут завоевать крестьянство, превратив аграрную революцию в закон рабочего государства.
Группа исследователей под руководством Яковлева произвела крайне ценную классификацию материалов, характеризующих эволюцию аграрного движения от февраля к октябрю. Приняв число неорганизованных выступлений в каждом месяце за 100, исследователи подсчитали, что «организованных» конфликтов приходилось на апрель 33, на июнь – 86, на июль – 120. Это и был момент наивысшего расцвета эсеровских организаций в деревне. В августе на 100 неорганизованных конфликтов приходится уже только 62 организованных, а в октябре – всего навсего 14. Из этих цифр, чрезвычайно поучительных при всей их условности, Яковлев делает, однако, совершенно неожиданный вывод: если до августа движение становилось все более «организованным», то осенью, наоборот, оно приобретает все более «стихийный характер». К той же формуле приходит другой исследователь, Верменичев: «Снижение доли организованного движения в период предоктябрьской волны свидетельствует о стихийности движения в эти месяцы». Если стихийность противопоставлять сознательности, как слепоту зрячести, – а это есть единственно научное противопоставление, – то пришлось бы прийти к выводу, что сознательность крестьянского движения до августа повышается, а затем начинает падать, чтобы совсем исчезнуть в момент октябрьского восстания. Этого наши исследователи явно не хотели сказать. При сколько-нибудь вдумчивом отношении к вопросу нетрудно понять, что, например, крестьянские выборы в Учредительное собрание, несмотря на их внешнюю «организованность», имели несравненно более «стихийный», т. е. неразумный, стадный, слепой, характер, чем «неорганизованный» крестьянский поход против помещика, где каждый крестьянин ясно знал, чего хочет.
На осеннем перевале крестьянство порывало не с сознательностью ради стихийности, а с соглашательским руководством ради гражданской войны. Упадок организованности имел, по существу, внешний характер: соглашательские организации отпадали, но после них оставалось вовсе не пустое место. Выход на новую дорогу происходил под непосредственным руководством наиболее революционных элементов: солдат, матросов, рабочих. Приступая к решительным действиям, крестьяне созывали нередко общее собрание и даже заботились о том, чтобы постановление было подписано всеми односельчанами. «В осенний период крестьянского движения с его разгромными формами, – пишет третий исследователь, Шестаков, – чаще выступает на сцену старый „сход“ крестьян… Сходом же делит крестьянство отобранное добро, через сход ведет переговоры с помещиками и администрацией имений, с уездными комиссарами и разного рода усмирителями…»
Почему сходят со сцены волостные комитеты, которые вплотную подвели крестьян к гражданской войне, на этот счет в материалах нет прямых указаний. Но объяснение напрашивается само собою. Революция крайне быстро изнашивает свои органы и орудия. Уже вследствие того что земельные комитеты руководили полумирными действиями, они должны были оказаться малопригодны для прямого штурма. Общая причина дополняется частными, но не менее вескими. Выступая на путь открытой войны с помещиками, крестьяне слишком хорошо знали, что грозит им в случае поражения. Немало земельных комитетов и без того уже сидело у Керенского под замком. Рассредоточить ответственность становилось необходимым требованием тактики. Наиболее пригодной формой для этого являлся «мир». В том же направлении действовали, несомненно, и обычная недоверчивость крестьян друг к другу: дело шло теперь о прямом захвате и дележе помещичьего добра, каждый хотел участвовать сам, не передоверяя никому своих прав. Так высшее обострение борьбы вело к временному отстранению представительных органов первобытной крестьянской демократией в виде схода и мирского приговора.
Грубая сбивчивость в определении характера крестьянского движения должна казаться особенно неожиданной под пером большевистских исследователей. Но нельзя забывать, что дело идет о большевиках нового склада. Бюрократизация мышления неизбежно ведет к переоценке тех форм организации, какие навязывались крестьянству сверху, и недооценке тех, которые крестьянство само себе давало. Просвещенный чиновник вслед за либеральным профессором рассматривает общественные процессы под углом зрения управления. В качестве народного комиссара земледелия Яковлев проявил впоследствии тот же суммарно-бюрократический подход к крестьянству, но уже в неизмеримо более широкой и ответственной области, именно при проведении «сплошной коллективизации». Теоретическая поверхность жестоко мстит за себя, когда дело идет о практике большого масштаба!
Но до ошибок сплошной коллективизации остается еще добрых тринадцать лет. Сейчас дело идет только об экспроприации земельной собственности. 134 000 помещиков еще дрожат над своими 80 миллионами десятин. Наиболее угрожаемым является положение верхушки, 30 тысяч господ старой России, которые владеют 70 миллионами десятин, свыше 2000 десятин в среднем на владельца. Дворянин Боборыкин пишет камергеру Родзянко: «Я – помещик, и в моей голове как-то не укладывается, чтобы я лишился моей земли, да еще для самой невероятной цели: для опыта социалистических учений». Но революция и имеет задачей совершить то, что не укладывается у правящих в головах.
Более дальновидные помещики не могут, однако, не видеть, что имений им не удержать. Они уже и не стремятся к этому: чем скорее развязаться с землею, тем лучше. Учредительное собрание представляется им прежде всего как большая расчетная палата, где государство возместит их не только за землю, но и за треволнения. Крестьяне-собственники примыкали к этой программе слева. Они не прочь были прикончить паразитическое дворянство, но опасались расшатать понятие земельной собственности. Государство достаточно богато, заявляли они на своих съездах, чтобы заплатить помещикам каких-нибудь 12 миллиардов рублей. В качестве «крестьян» они рассчитывали при этом воспользоваться на льготных условиях помещичьей землицей, оплаченной за счет народа.
Собственники понимали, что размер выкупных платежей есть политическая величина, которая будет определена соотношением сил к моменту расплаты. До конца августа оставалась надежда на то, что созванное по-корниловски Учредительное собрание проведет линию аграрной реформы между Родзянко и Милюковым. Крушение Корнилова означало, что имущие классы проиграли игру.
В течение сентября и октября помещики ждут развязки, как безнадежно больной ждет смерти. Осень есть время мужицкой политики. Убраны поля, развеяны иллюзии, утрачено терпение. Пора кончать! Движение выходит из берегов, захватывает все районы, стирает местные особенности, вовлекает все слои деревни, смывает все соображения закона и осторожности, становится наступательным, неистовым, свирепым, бешеным, вооружается железом и огнем, револьвером и гранатой, сокрушает и выжигает усадьбы, изгоняет помещиков, очищает землю, кое-где поливает ее кровью.
Гибнут дворянские гнезда, воспетые Пушкиным, Тургеневым и Толстым. Дымом исходит старая Россия. Либеральная пресса собирает стенания и вопли о разрушении английских садов, картин крепостной кисти, родовых библиотек, тамбовских партенонов, скаковых лошадей, старинных гравюр, племенных быков. Буржуазные историки пытаются возложить на большевиков ответственность за «вандализм» крестьянской расправы над дворянской «культурой». На самом деле русский мужик завершал дело, начатое за много столетий до появления на свет большевиков. Свою прогрессивную историческую задачу он выполнял теми единственными способами, которые были в его распоряжении, – революционным варварством он искоренял варварство средневековья. К тому же ни сам он, ни деды его, ни прадеды никогда не видели ни милости, ни снисхождения.
Когда феодалы взяли верх над жакерией, на четыре с половиной века опередившей освобождение французских крестьян, благочестивый монах записал в своей хронике: «Они причинили столько зла стране, что не было нужды в приходе англичан для разрушения королевства; те никогда не могли бы сделать того, что сделали дворяне Франции». Только буржуазия – в мае 1871 года – превзошла по свирепости французских дворян. Русские крестьяне благодаря руководству рабочих, русские рабочие благодаря поддержке крестьян избежали этого двойного урока защитников культуры и человечности.
Взаимоотношения между основными классами России нашли свое воспроизведение в деревне. Как против монархии дрались рабочие и солдаты наперекор планам буржуазии, так против помещиков смелее всего поднималась беднота, не слушая предостережений кулака. Как соглашатели верили, что революция станет прочно на ноги лишь с момента, когда Милюков признает ее, так озирающемуся направо и налево середняку представлялось, что подпись кулака узаконяет захваты. Подобно тому, наконец, как враждебная революции буржуазия не задумалась присвоить себе власть, так кулаки, противодействовавшие разгрому, не отказались воспользоваться его плодами. Власть в руках буржуа, как и помещичье добро в руках кулака удержались недолго – в обоих случаях в силу однородных причин.
Могущество аграрно-демократической, по существу буржуазной революции выразилось в том, что она преодолела на время классовые противоречия села: батрак громил помещика, помогая кулаку. XVII, XVIII и XIX века русской истории поднялись на плечах XX века и пригнули его к земле. Слабость запоздалой буржуазной революции выразилась в том, что крестьянская война не толкнула буржуазных революционеров вперед, а, наоборот, окончательно отбросила их в лагерь реакции: вчерашний каторжанин Церетели охранял помещичью землю от анархии! Отброшенная буржуазией крестьянская революция смыкалась с промышленным пролетариатом. Этим самым XX век не только высвобождался из-под навалившихся на него прошлых веков, но на плечах их поднимался на новую историческую высоту. Чтобы крестьянин мог очистить и разгородить землю, во главе государства должен был стать рабочий – такова простейшая формула Октябрьской революции.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Язык важнейшее орудие связи человека с человеком, а следовательно, и хозяйства. Он становится национальным языком вместе с победой товарного оборота, объединяющего нацию. На этой основе складывается национальное государство, как наиболее удобная, выгодная, нормальная арена капиталистических отношений. В Западной Европе эпоха формирования буржуазных наций, если оставить в стороне борьбу Нидерландов за независимость и судьбу островной Англии, началась с Великой французской революции и в основном завершилась примерно в течение столетия, с образованием Германской империи.
Но в тот период, когда национальное государство в Европе уже перестало вмещать производительные силы и перерастало в империалистское государство, на Востоке – в Персии, на Балканах, в Китае, Индии – только еще открывалась эра национально-демократических революций, толчок которым был дан русской революцией 1905 года. Балканская война 1912 года представляла завершение формирования национальных государств на юго-востоке Европы. Последовавшая затем империалистская война попутно доделала в Европе недоделанную работу национальных революций, приведя к расчленению Австро-Венгрии, к созданию независимой Польши и пограничных государств, выделившихся из империи царей.
Россия сложилась не как национальное государство, а как государство национальностей. Это отвечало ее запоздалому характеру. На основе экстенсивного сельского хозяйства и кустарного ремесла торговый капитал развивался не вглубь, не преобразуя производство, а вширь, увеличивая радиус своих операций. Торговец, помещик и чиновник продвигались от центра к периферии, вслед за расселявшимися крестьянами, которые в поисках свежей земли и свободы от поборов проникали на новые территории с еще более отсталыми племенами. Экспансия государства была в основе своей экспансией сельского хозяйства, которое, при всей своей первобытности, обнаруживало превосходство над кочевниками Юга и Востока. Сформировавшееся на этой необъятной и неизменно расширявшейся базе сословно-бюрократическое государство стало достаточно сильным, чтобы подчинять себе на Западе отдельные нации более высокой культуры, но не способные, в силу малочисленности или внутреннего кризиса, отстоять свою самостоятельность (Польша, Литва, Прибалтика, Финляндия).
К 70 миллионам великороссов, составивших главный массив страны, прибавилось постепенно около 90 миллионов «инородцев», которые резко делились на две группы: западных, превосходящих великороссов своей культурой, и восточных, стоящих на более низком уровне. Так сложилась империя, в составе которой господствующая национальность составляла лишь 43 % населения, а 57 %, в том числе 17 % украинцев, 6 % поляков, 4 1/2 % белорусов, падали на национальности различных степеней культуры и бесправия.
Жадная требовательность государства и скудость крестьянской базы под господствующими классами порождали самые ожесточенные формы эксплуатации. Национальный гнет в России был несравненно грубее, чем в соседних государствах не только по западную, но и по восточную границу. Многочисленность бесправных наций и острота бесправия сообщали национальной проблеме в царской России огромную взрывчатую силу.
Если в национально однородных государствах буржуазная революция развивала могучие центробежные тенденции, проходя под знаменем преодоления партикуляризма, как во Франции, или национальной раздробленности, как в Италии и Германии, то в национально разнородных государствах, как Турция, Россия, Австро-Венгрия, запоздалая буржуазная революция разнуздывала, наоборот, центростремительные силы. Несмотря на видимую противоположность этих процессов, выраженных в терминах механики, их историческая функция одинакова, поскольку в обоих случаях дело идет о том, чтобы использовать национальное единство как основной хозяйственный резервуар: Германию нужно было для этого объединить. Австро-Венгрию, наоборот, – расчленить. Неизбежность развития центробежных национальных движений в России Ленин учел заблаговременно и в течение ряда лет упорно боролся, в частности против Розы Люксембург, за знаменитый параграф 9 старой партийной программы, формулировавший право наций на самоопределение, т. е. на полное государственное отделение. Этим большевистская партия вовсе не брала на себя проповедь сепаратизма. Она обязывалась лишь непримиримо сопротивляться всем и всяким видам национального гнета, в том числе и насильственному удержанию той или другой национальности в границах общего государства. Только таким путем русский пролетариат мог постепенно завоевать доверие угнетенных народностей.
Но это была лишь одна сторона дела. Политика большевизма в национальной области имела и другую сторону, как бы противоречащую первой, а на самом деле дополняющую ее. В рамках партии и вообще рабочих организаций большевизм проводил строжайший централизм, непримиримо борясь против всякой заразы национализма, способной противопоставить рабочих друг другу или разъединить их. Начисто отказывая буржуазному государству в праве навязывать национальному меньшинству принудительное сожительство или хотя бы государственный язык, большевизм считал в то же время своей поистине священной задачей как можно теснее связывать посредством добровольной классовой дисциплины трудящихся разных национальностей воедино. Так, он начисто отвергал национально-федеративный принцип построения партии. Революционная организация – не прототип будущего государства, а лишь орудие для его создания. Инструмент должен быть целесообразен для выделки продукта, а вовсе не включать его в себя. Только централистическая организация может обеспечить успех революционной борьбы, так же и в том случае, когда дело идет о разрушении централистического гнета над нациями.
Низвержение монархии для угнетенных наций России должно было по необходимости означать и их национальную революцию. Здесь обнаружилось, однако, то же, что и во всех остальных областях февральского режима: официальная демократия, связанная своей политической зависимостью от империалистской буржуазии, оказалась совершенно неспособна разрушить старые оковы. Считая бесспорным свое право решать судьбу всех остальных наций, она продолжала ревниво охранять те источники богатства, силы, влияния, которые давало великорусской буржуазии ее господствующее положение. Соглашательская демократия лишь перевела традиции национальной политики царизма на язык освободительной риторики: дело шло теперь о защите единства революции. Но у правящей коалиции был и другой, более острый довод: соображения военного времени. Это значит, освободительные стремления отдельных национальностей изображались как дело рук австро-германского штаба. Первую скрипку и тут играли кадеты, соглашатели вторили.
Новая власть не могла, конечно, оставить в неприкосновенности отвратительный клубок средневековых издевательств над инородцами. Но она надеялась и пыталась ограничиться одним лишь упразднением исключительных законов против отдельных наций, т. е. установлением голого равенства всех частей населения перед великорусской государственной бюрократией.
Формальное равноправие больше всего давало евреям: число законов, ограничивавших их права, достигало 650. К тому же в качестве чисто городской и наиболее распыленной национальности евреи не могли претендовать не только на государственную самостоятельность, но и на территориальную автономию. Что касается проекта так называемой «национально-культурной автономии», которая должна была объединить евреев на протяжении всей страны вокруг школ и других учреждений, то та реакционная утопия, заимствованная разными еврейскими группами у австрийского теоретика Отто Бауэра, растаяла с первым днем свободы, как воск под лучами солнца.
Но революция потому и революция, что она не удовлетворяется ни подачками, ни расплатой в рассрочку. Устранение наиболее постыдных ограничений устанавливало формальное равноправие граждан независимо от национальности; но тем острее обнаруживало неравноправное положение самих наций, оставляя большинство их на положении пасынков и приемышей великорусского государства.