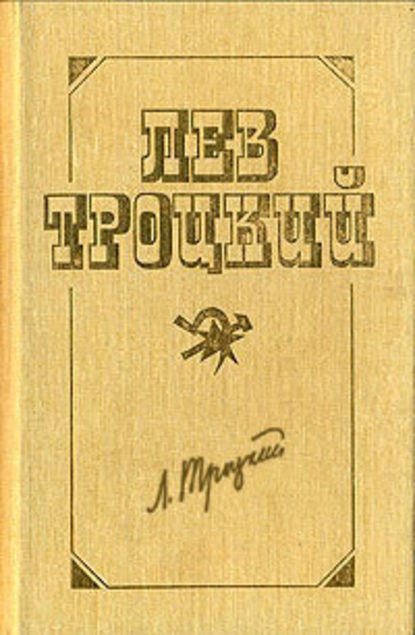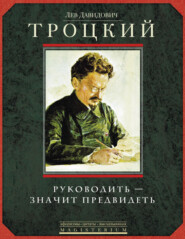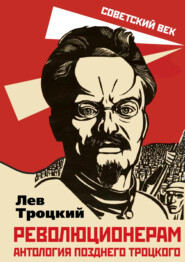По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Немецкая революция и сталинская бюрократия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Итальянские коммунисты, давно уже вынужденные заниматься вопросом о фашизме, не раз протестовали против столь распространенного злоупотребления этим понятием. В эпоху VI конгресса Коминтерна Эрколи все еще развивал по вопросу о фашизме взгляды, которые теперь считаются «троцкистскими». Определяя фашизм, как самую последовательную и до конца доведенную систему реакции, Эрколи пояснял: «это утверждение опирается не на жестокие террористические акты, не на большое число убитых рабочих и крестьян, не на свирепость различных родов пыток, широко применявшихся, не на суровости приговоров; оно мотивируется систематическим уничтожением всех и всяких форм самостоятельной организации масс». Эрколи тут совершенно прав: суть и назначение фашизма состоит в полном упразднении рабочих организаций и в противодействии их возрождению. В развитом капиталистическом обществе этой цели нельзя достигнуть одними полицейскими средствами. Единственный путь для этого: противопоставить напору пролетариата – в момент его ослабления – напор отчаявшихся мелкобуржуазных масс. Именно эта особая система капиталистической реакции и вошла в историю под именем фашизма.
«Вопрос об отношениях, существующих между фашизмом и социал-демократией, – писал Эрколи, – принадлежит к той же области (непримиримости фашизма с рабочими организациями). В этом отношении фашизм ярко отличается от всех других реакционных режимов, которые укреплялись до настоящего времени в современном капиталистическом мире. Он отбрасывает всякий компромисс с социал-демократией, он преследовал ее свирепо; он отнял у нее всякую возможность легального существования; он вынудил ее эмигрировать».
Так гласила статья, напечатанная в руководящем органе Коминтерна! После того Мануильский подсказал Молотову великую идею «третьего периода». Франция, Германия и Польша были откомандированы в «первый ряд революционного наступления». Непосредственной задачей было объявлено завоевание власти. А так как перед лицом пролетарского восстания все партии, кроме коммунистической, контрреволюционны, то различать между фашизмом и социал-демократией не было уже больше нужды. Теория социал-фашизма была утверждена. Чиновники Коминтерна перевооружились. Эрколи поспешил доказать, что истина ему дорога, но Молотов дороже, и… написал доклад в защиту теории социал-фашизма. «Итальянская социал-демократия – заявлял он в феврале 1930 года – фашизируется с крайней легкостью». Увы, с еще большей легкостью сервилизируются чиновники официального коммунизма.
Нашу критику теории и практики «третьего периода» объявили, как полагается, контрреволюционной. Жестокий опыт, дорого обошедшийся пролетарскому авангарду, заставил, однако, и в этой области произвести поворот. «Третий период» был уволен в отставку, как и сам Молотов – из Коминтерна. Но теория социал-фашизма осталась, как единственный зрелый плод третьего периода. Здесь перемен не может быть: с третьим периодом связал себя только Молотов; в социал-фашизме запутался сам Сталин.
Эпиграфом для своих исследований о социал-фашизме «Роте Фане» выбирает слова Сталина: «Фашизм есть боевая организация буржуазии, которая опирается на активную поддержку социал-демократии. Социал-демократия есть объективно умеренное крыло фашизма». Как обычно бывает у Сталина, когда он пытается обобщать, первая фраза противоречит второй. Что буржуазия опирается на социал-демократию и что фашизм есть боевая организация буржуазии, совершенно бесспорно и давно уже сказано. Но из этого вытекает лишь, что социал-демократия, как и фашизм, являются орудиями крупной буржуазии. Каким образом социал-демократия оказывается при этом еще «крылом» фашизма, понять невозможно. Не более глубокомысленно и другое определение того же автора: фашизм и социал-демократия не противники, а близнецы. Близнецы могут быть жестокими противниками; с другой стороны, союзники вовсе не должны родиться в один и тот же день от общей матери. В конструкции Сталина отсутствует даже формальная логика, не говоря о диалектике. Сила этой конструкции в том, что никто не смеет ей возразить.
Между демократией и фашизмом нет различия «в классовом содержании», поучает вслед за Сталиным Вернер Гирш («Die Internationale», январь 1932). Переход от демократии к фашизму может иметь характер «органического процесса», т. е. произойти «постепенно и холодным путем». Это рассуждение звучало бы поразительно, если б эпигонство не отучило нас поражаться.
Между демократией и фашизмом нет «классового различия». Это должно означать, очевидно, что демократия имеет буржуазный характер, как и фашизм. Об этом мы догадывались и до января 1932 года. Но господствующий класс не живет в безвоздушном пространстве. Он стоит в определенных отношениях к другим классам. В «демократическом» режиме развитого капиталистического общества буржуазия опирается прежде всего на прирученный реформистами рабочий класс. Наиболее законченно эта система выражена в Англии, как при лейбористском, так и при консервативном правительстве. В фашистском режиме, по крайней мере, на первой его стадии, капитал опирается на мелкую буржуазию, разрушающую организации пролетариата. Такова Италия! Есть ли разница в «классовом содержании» этих двух режимов? Если ставить вопрос только о господствующем классе, то разницы нет. Если же брать положение и взаимоотношение всех классов под углом зрения пролетариата, то разница оказывается весьма велика.
В течение многих десятилетий рабочие строили внутри буржуазной демократии, используя ее и борясь с нею, свои укрепления, свои базы, свои очаги пролетарской демократии: профсоюзы, партии, образовательные клубы, спортивные организации, кооперативы и пр. Пролетариат может прийти к власти не в формальных рамках буржуазной демократии, а только революционным путем: это одинаково доказано и теорией и опытом. Но именно для революционного пути ему необходимы опорные базы рабочей демократии внутри буржуазного государства. К созданию таких баз и сводилась работа Второго Интернационала в ту эпоху, когда он выполнял еще прогрессивную историческую работу.
Фашизм имеет своим основным и единственным назначением: разрушить до фундамента все учреждения пролетарской демократии. Имеет это для пролетариата «классовое значение» или не имеет? Пусть высокие теоретики поразмыслят над этим. Назвав режим буржуазным, – что бесспорно, – Гирш, как и его учителя, забывают о мелочи: о месте пролетариата в этом режиме. Исторический процесс они подменяют голой социологической абстракцией. Но борьба классов ведется на земле истории, а не в стратосфере социологии. Исходным моментом борьбы с фашизмом является не абстракция демократического государства, а живые организации самого пролетариата, в которых сосредоточен весь его опыт и которые подготовляют его будущее.
Что переход от демократии к фашизму может иметь «органический» и «постепенный» характер, означает, очевидно, ни что иное, как то, что у пролетариата могут отнять не только все его материальные завоевания – известный уровень жизни, социальное законодательство, гражданские и политические права, но и основное орудие этих завоеваний, т. е. его организации, – без потрясений и без боев. Переход к фашизму «на холодном пути» подразумевает, таким образом, самую страшную политическую капитуляцию пролетариата, какую вообще только можно себе представить.
Теоретические рассуждения Вернера Гирша не случайны: развивая далее теоретические вещания Сталина, они обобщают в то же время всю нынешнюю агитацию компартии. Главные ее усилия ведь на то и направлены, чтобы доказать: между режимом Брюнинга и режимом Гитлера разницы нет. В этом Тельман и Реммеле видят сейчас квинтэссенцию большевистской политики.
Дело не ограничивается Германией. Мысль о том, что победа фашистов не внесет ничего нового, усердно пропагандируется теперь во всех секциях Коминтерна. В январской книжке французского журнала «Тетради большевизма» мы читаем: «Троцкисты, действуя на практике, как Брейтшайд, воспринимают знаменитую теорию социал-демократии о меньшем зле, согласно которой Брюнинг не так плох, как Гитлер, согласно которой менее неприятно умереть с голоду под Брюнингом, чем под Гитлером, и бесконечно предпочтительнее быть застреленным Гренером, чем Фриком». Эта цитата – не самая глупая, хотя, надо отдать справедливость, она достаточно глупа. Однако, увы, она выражает самую суть политической философии вождей Коминтерна.
Дело в том, что сталинцы сравнивают два режима под углом зрения вульгарной демократии. Действительно, если подойти к режиму Брюнинга с формальным «демократическим» критерием, то вывод получится бесспорный: от гордой Веймарской конституции остались кости да кожа. Но для нас это еще не решает вопроса. Надо взглянуть на вопрос с точки зрения пролетарской демократии. Это есть единственный надежный критерий также и по вопросу о том, где и когда «нормальная» полицейская реакция загнивающего капитализма сменяется фашистским режимом.
«Лучше» ли Брюнинг Гитлера (симпатичнее, что ли?), этот вопрос нас, признаться, мало занимает. Но стоит обозреть карту рабочих организаций, чтобы сказать: в Германии фашизм еще не победил. Еще гигантские препятствия и силы стоят на пути к его победе.
Нынешний режим Брюнинга есть режим бюрократической диктатуры, точнее: диктатуры буржуазии, осуществляемой военно-полицейскими средствами. Фашистская мелкая буржуазия и пролетарские организации как бы уравновешивают друг друга. Если бы рабочие организации были объединены Советами; если бы заводские комитеты боролись за контроль над производством, – можно было бы говорить о двоевластии. Вследствие расколотости пролетариата и тактической беспомощности его авангарда этого еще нет. Но самый факт существования могущественных рабочих организаций, которые, при известных условиях, способны дать сокрушительный отпор фашизму, не подпускает Гитлера к власти и сообщает известную «независимость» бюрократическому аппарату.
Диктатура Брюнинга является карикатурой на бонапартизм. Эта диктатура неустойчива, ненадежна, недолговечна. Она знаменует не начало нового социального равновесия, а предвещает близкое крушение старого равновесия. Опираясь непосредственно лишь на небольшое буржуазное меньшинство, терпимый социал-демократией против воли рабочих, угрожаемый фашизмом, Брюнинг способен на декретные громы, но не на реальные. Распустить парламент с его собственного согласия, выпустить несколько декретов против рабочих, объявить рождественское перемирие, чтоб под его прикрытием обделать несколько делишек, распустить сотню собраний, закрыть десяток газет, обмениваться с Гитлером письмами, достойными провинциального аптекаря, – вот, на что хватает Брюнинга. Для большего – у него коротки руки.
Брюнинг вынужден терпеть существование рабочих организаций, поскольку не решается еще сегодня передать власть Гитлеру и поскольку самостоятельной силы для ликвидации их у него нет. Брюнинг вынужден терпеть фашистов и покровительствовать им, поскольку смертельно боится победы рабочих. Режим Брюнинга есть переходный, кратковременный режим, предшествующий катастрофе. Нынешнее правительство держится только потому, что главные лагери еще не померялись силами. Настоящий бой еще не завязался. Он еще впереди. Паузу до боя, до открытого соизмерения сил заполняет диктатура бюрократического бессилия.
Мудрецы, которые хвалятся тем, что не признают разницы «между Брюнингом и Гитлером», на самом деле говорят: существуют ли еще наши организации или они уже разгромлены, значения не имеет. Под этим мнимо-радикальным фразерством скрывается самая гнусная пассивность: поражения нам все равно не миновать! Перечитайте внимательно цитату из журнала французских сталинцев: вся проблема сводится к тому, при ком лучше голодать: при Брюнинге или при Гитлере. Мы же ставим вопрос не о том, как и при каких условиях лучше умирать, а о том, как бороться и побеждать. Вывод наш таков: генеральный бой надо дать прежде, чем бюрократическая диктатура Брюнинга заменилась фашистским режимом, т. е. прежде, чем раздавлены рабочие организации. К генеральному бою надо готовиться путем развертывания, расширения, обострения частных боев. Но для этого надо иметь правильную перспективу и, прежде всего, не объявлять победителем врага, которому еще далеко до победы.
Здесь центр вопроса, здесь стратегический ключ к обстановке, здесь исходная позиция для борьбы. Каждый мыслящий рабочий, тем паче каждый коммунист, обязан отдать себе отчет во всей пустоте, во всем ничтожестве, во всей гнилости разговоров сталинской бюрократии о том, что Брюнинг и Гитлер – это одно и то же. Вы путаете! отвечаем мы им. Вы позорно путаете от испуга перед трудностями, от страха перед великими задачами, вы капитулируете до борьбы, вы объявляете, что мы уже потерпели поражение. Вы лжете! Рабочий класс расколот, ослаблен реформистами, дезориентирован шатаниями собственного авангарда, но он еще не разбит, силы его не исчерпаны. Нет, пролетариат Германии могущественен. Самые оптимистические расчеты окажутся неизмеримо превзойдены, когда его революционная энергия проложит себе дорогу на арену действия.
Режим Брюнинга есть подготовительный режим. К чему? Либо к победе фашизма, либо к победе пролетариата. Подготовительным этот режим является потому, что оба лагеря лишь подготовляются к решающему бою. Отождествлять Брюнинга с Гитлером значит отождествлять положение до боя с положением после поражения; значит – заранее признать поражение неизбежным; значит – призвать капитулировать без боя.
Подавляющее большинство рабочих, особенно коммунистов, этого не хочет. Этого не хочет, конечно, и сталинская бюрократия. Но надо брать не добрые намерения, из которых Гитлер будет мостить мостовые в своем аду, а объективный смысл политики, ее направление, ее тенденции. Надо до конца разоблачить пассивный, трусливо-выжидательный, капитулянтский, декламаторский характер политики Сталина-Мануильского-Тельмана-Реммеле. Надо, чтоб революционные рабочие поняли: ключ к позиции у компартии; но этим ключом сталинская бюрократия пытается запереть ворота к революционному действию.
III. БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ УЛЬТИМАТИЗМ
Когда газеты новой Социалистической рабочей партии (САП) пишут против «партийных эгоизмов» социал-демократии и компартии; когда Зейдевиц заверяет, что для него «классовый интерес стоит над партийным интересом», – то они впадают в политический сентиментализм или, еще хуже, сентиментальными фразами прикрывают интересы собственной партии. Это негодный путь. Когда реакция требует, чтоб интересы «нации» ставились выше классовых интересов, мы, марксисты, разъясняем, что под видом интересов «целого» реакция проводит интересы эксплуататорского класса. Нельзя формулировать интересы нации иначе, как под углом зрения господствующего класса или класса, претендующего на господство. Нельзя формулировать интересы класса иначе, как в виде программы; нельзя защищать программу иначе, как создавая партию.
Класс, взятый сам по себе, есть только материал для эксплуатации. Самостоятельная роль пролетариата начинается там, где он из социального класса в себе становится политическим классом для себя. Это происходит не иначе, как через посредство партии. Партия есть тот исторический орган, через посредство которого класс приходит к самосознанию. Говорить: «класс выше партии» – значит утверждать: сырой класс выше класса, идущего к самосознанию. Это не только неправильно, но и реакционно. Для обоснования необходимости единого фронта в этой обывательской теории нет ни малейшей нужды.
Движение класса к самосознанию, т. е. выработка революционной партии, ведущей за собой пролетариат, есть сложный и противоречивый процесс. Класс не однороден. Разные части его разными путями и в разные сроки приходят к самосознанию. Буржуазия принимает активное участие в этом процессе. Она создает свои органы в рабочем классе или использует существующие, противопоставляя одни слои рабочих другим. В пролетариате действуют одновременно разные партии. Политически он остается, поэтому, расколотым на большей части своего исторического пути. Отсюда и вытекает – в известные периоды с чрезвычайной остротой – проблема единого фронта.
Коммунистическая партия – при правильной политике – выражает исторические интересы пролетариата. Ее задача состоит в том, чтоб завоевать большинство пролетариата: только так и возможен социалистический переворот. Выполнить свою миссию коммунистическая партия может не иначе, как сохраняя полную и безусловную политическую и организационную независимость по отношению ко всем другим партиям и организациям в рабочем классе и вне его. Нарушение этого основного требования марксистской политики есть самое тяжкое из всех преступлений против интересов пролетариата, как класса. Китайская революция 1925 – 27 г. г. была погублена именно потому, что руководимый Сталиным и Бухариным Коминтерн заставил китайскую компартию вступить в Гоминдан, партию китайской буржуазии, и подчиняться ее дисциплине. Опыт сталинской политики по отношению к Гоминдану навсегда войдет в историю, как образец гибельного саботажа революции ее руководителями. Сталинская теория «двухсоставных рабоче-крестьянских партий» для Востока есть обобщение и узаконение практики с Гоминданом; применение этой теории в Японии, Индии, Индонезии, Корее подорвало авторитет коммунизма и задержало революционное развитие пролетариата на ряд лет. Та же, вероломная по существу, политика проводилась, хотя и не столь цинично, в Соединенных Штатах, Англии и во всех странах Европы до 1928 года.
Борьба левой оппозиции за полную и безусловную независимость коммунистической партии и ее политики, при всех и всяких исторических условиях и на всех ступенях развития пролетариата, привела к чрезвычайному обострению отношений между оппозицией и фракцией Сталина в период его блока с Чан-Кай-Ши, Ван-Тин-Веем, Перселем, Радичем, Лафолетом и пр. Незачем напоминать, что как Тельман с Реммеле, так и Брандлер с Тальгеймером были в этой борьбе полностью и целиком на стороне Сталина против большевиков-ленинцев. Не нам, поэтому, учиться у Сталина и Тельмана самостоятельной политике коммунистической партии!
Но пролетариат идет к революционному самосознанию не по школьным ступенькам, а через классовую борьбу, которая не терпит перерывов. Для борьбы пролетариат нуждается в единстве своих рядов. Это одинаково верно и для частных экономических конфликтов, в стенах одного предприятия, и для таких «национальных» политических боев, как отражение фашизма. Тактика единого фронта не есть, следовательно, нечто случайное и искусственное, какой-либо хитрый маневр, – нет, она полностью и целиком вытекает из объективных условий развития пролетариата. Слова Манифеста коммунистической партии о том, что коммунисты не противостоят пролетариату, что у них нет других целей и задач, кроме задач пролетариата, выражают ту мысль, что борьба партии за большинство класса ни в каком случае не должна приходить в противоречие с потребностью рабочих в единстве их боевых рядов.
«Роте Фане» с полным основанием осуждает разговоры о том, что «классовые интересы выше интересов партии». На самом деле правильно понятые интересы класса и правильно формулированные задачи партии совпадают. Пока дело ограничивается этим историко-философским утверждением, позиция «Роте Фане» неуязвима. Но политические выводы, какие она отсюда делает, представляют уже прямое издевательство над марксизмом.
Принципиальное тождество интересов пролетариата и задач коммунистической партии не означает ни того, что пролетариат в целом уже сегодня сознает свои интересы, ни того, что партия при всяких условиях правильно формулирует их. Самая необходимость в партии вытекает ведь именно из того, что пролетариат не рождается с готовым пониманием своих исторических интересов. Задача партии состоит в том, чтоб на опыте боев научиться доказывать пролетариату свое право на руководство. Между тем, сталинская бюрократия считает, что можно просто-напросто требовать от пролетариата подчинения на основании партийного паспорта, скрепленного печатью Коминтерна.
Всякий единый фронт, который заранее не стоит под руководством коммунистической партии, – повторяет «Роте Фане», – направлен против интересов пролетариата. Кто не признает руководства компартии, является тем самым «контрреволюционером». Рабочий обязан поверить коммунистической организации авансом, на честное слово. Из принципиального тождества задач партии и класса чиновник выводит свое право командовать классом. Ту историческую задачу, которую компартия должна еще только разрешить: объединение под своим знаменем подавляющего большинства рабочих, – бюрократ превращает в ультиматум, в револьвер, приставленный к виску рабочего класса. Диалектическое мышление заменяется формалистическим, административным, бюрократическим.
Историческая задача, которую нужно разрешить, считается уже разрешенной. Доверие, которое нужно завоевать, признается уже завоеванным. Это, разумеется, проще всего. Но дело от этого мало подвигается вперед. Исходить в политике надо из того, что есть, а не из того, что желательно и что будет. Доведенная до конца позиция сталинской бюрократии есть, в сущности, отрицание партии. Ибо к чему сводится вся ее историческая работа, если пролетариат обязан заранее признать руководство Тельмана и Реммеле?
От рабочего, который хочет вступить в ряды коммунистов, партия имеет право потребовать: ты должен признать нашу программу, наш устав и руководство наших выборных учреждений. Но бессмысленно и преступно предъявлять то же самое априорное требование, или хотя бы часть его, рабочим массам или рабочим организациям, когда вопрос идет о совместных действиях во имя определенных боевых задач. Это значит подрывать самый фундамент партии, которая может выполнить свое назначение только при правильном взаимоотношении с классом. Вместо того, чтоб предъявлять односторонний ультиматум, раздражающий и оскорбляющий рабочих, надо предложить определенную программу совместных действий: это наиболее верный путь к тому, чтоб завоевать руководство на деле.
Ультиматизм есть попытка изнасиловать рабочий класс, когда не удается убедить его: если вы, рабочие, не признаете руководства Тельмана-Реммеле-Ноймана, то мы не позволим вам создать единый фронт. Злой враг не мог бы придумать более невыгодного положения, чем то, в какое ставят себя вожди компартии. Это верный путь к гибели.
Руководство германской компартии только ярче подчеркивает свой ультиматизм, когда казуистически оговаривается в своих воззваниях: «Мы не требуем от вас, чтоб вы заранее признали наши коммунистические воззрения». Это звучит, как извинение за политику, которой извинения быть не может. Когда партия заявляет, что она отказывается вступать в какие бы то ни было переговоры с другими организациями, но разрешает рабочим социал-демократам порвать со своей организацией и, не называя себя коммунистами, стать под руководство компартии, то это и есть чистейший ультиматизм. Оговорка насчет «коммунистических воззрений» совершенно смехотворна: рабочий, который готов уже сегодня порвать со своей партией, чтобы принять участие в борьбе под коммунистическим руководством, не остановится перед тем, чтобы назвать себя коммунистом. Дипломатические уловки, игра с ярлычками чужды рабочему. Он берет политику и организацию по существу. Он остается в социал-демократии до тех пор, пока не доверяет коммунистическому руководству. Можно сказать с уверенностью, что большинство социал-демократических рабочих не потому остается сегодня еще в своей партии, что доверяет реформистскому руководству, а только потому, что не доверяет коммунистическому. Но они хотят уже сегодня бороться против фашизма. Если им указать ближайший этап совместной борьбы, они потребуют, чтоб их организация стала на этот путь. Если организация будет упираться, они могут дойти до разрыва с ней.
Вместо того, чтоб помочь социал-демократическим рабочим на опыте найти свой путь, ЦК компартии помогает вождям социал-демократии против рабочих. Свое нежелание бороться, свой страх перед борьбой, свою неспособность к борьбе Вельсы и Гильфердинги с полным успехом прикрывают сейчас ссылкой на нежелание компартии участвовать в общей борьбе. Упрямый, тупой, бессмысленный отказ компартии от политики единого фронта стал в нынешних условиях важнейшим политическим ресурсом социал-демократии. Поэтому-то социал-демократия, со свойственным ей паразитизмом, и цепляется так за нашу критику ультиматистской политики Сталина-Тельмана.
Официальные руководители Коминтерна с глубокомысленным видом разглагольствуют сейчас о повышении теоретического уровня партии и об изучении «истории большевизма». На деле «уровень» все больше снижается, уроки большевизма забыты, искажены, растоптаны. Между тем в истории русской партии совсем не трудно найти предтечу нынешней политики немецкого ЦК: это покойный Богданов, создатель ультиматизма (или отзовизма). Еще в 1905 году он считал невозможным для большевиков участвовать в петербургском Совете, если Совет не признает предварительно социал-демократического руководства. Под влиянием Богданова петербургское бюро ЦК большевиков приняло в октябре 1905 г. постановление: предъявить петербургскому Совету требование о признании им руководства партии; в противном случае – выйти из состава Совета. Молодой адвокат Красиков, в те времена член ЦК большевиков, предъявил этот ультиматум на пленарном заседании Совета. Рабочие депутаты, в том числе и большевики, с удивлением переглянулись и – перешли к порядку дня. Ни один человек не вышел из Совета. Вскоре прибыл из-за границы Ленин и задал ультиматистам жестокую головомойку: нельзя, – учил он, – нельзя при помощи ультиматумов заставить массу перескакивать через необходимые фазисы ее собственного политического развития.
Богданов, однако, не отказался от своей методологии и создал впоследствии целую фракцию «ультиматистов» или «отзовистов»: последнее имя они получили потому, что склонны были отзывать большевиков из всех тех организаций, которые отказывались принимать предъявленный им сверху ультиматум: «признай заранее наше руководство». Свою политику ультиматисты пытались применять не только к Совету, но также и в области парламентаризма и к профессиональным союзам, ко всем вообще легальным и полулегальным организациям рабочего класса.
Борьба Ленина против ультиматизма была борьбой за правильное отношение между партией и классом. Ультиматисты в старой большевистской партии никогда не поднимались до сколько-нибудь значительной роли: иначе победа большевизма была бы невозможна. Внимательное и чуткое отношение к классу составляло силу большевизма. Борьбу против ультиматизма Ленин продолжал и тогда, когда стоял у власти, в частности и в особенности – по отношению к профессиональным союзам. «Да если бы мы сейчас в России, – писал он, – после 2 1/2 лет невиданных побед над буржуазией России и Антанты, поставили для профсоюзов условием вступления „признание диктатуры“, мы бы сделали глупость, испортили бы свое влияние на массы, помогли меньшевикам. Ибо вся задача коммунистов – уметь убедить отсталых, уметь работать среди них, а не отгораживаться от них выдуманными ребячески-„левыми“ лозунгами» («Детская болезнь „левизны“). Тем более это обязательно для коммунистических партий Запада, представляющих лишь меньшинство рабочего класса.
Положение, однако, радикально изменилось в СССР за последний период. Коммунистическая партия, вооруженная властью, означает уже другое соотношение между авангардом и классом: в это отношение входит элемент принуждения. Борьба Ленина против партийного и советского бюрократизма в основе своей означала борьбу не против плохого устройства канцелярий, волокиты, неряшливости и пр., а против командования аппарата над классом, против превращения партийной бюрократии в новый «правящий» слой. Предсмертный совет Ленина: создать пролетарскую контрольную комиссию, независимую от ЦК, и отставить Сталина и его фракцию от партийного аппарата, – был направлен против бюрократического перерождения партии. По ряду причин, в которые входить здесь мы не можем, партия прошла мимо этого совета. Бюрократическое перерождение партии доведено за последние годы до предела. Сталинский аппарат только командует. Язык команды есть язык ультиматизма. Каждый рабочий должен заранее признать, что все прошлые, настоящие и будущие решения ЦК непогрешимы. Претензии непогрешимости росли тем более, чем ошибочнее становилась политика.
Получив в свои руки аппарат Коминтерна, сталинская фракция естественно перенесла свои методы и на иностранные секции, т. е. на коммунистические партии капиталистических стран. Политика германского руководства есть отражение политики московского руководства. Тельман видит, как сталинская бюрократия командует, объявляя контрреволюционером всякого, кто не признает ее непогрешимости. Чем Тельман хуже Сталина? Если рабочий класс не становится покорно под его руководство, то потому, что рабочий класс контрреволюционен. Вдвойне контрреволюционны те, которые указывают Тельману на гибельность ультиматизма. Одной из наиболее контрреволюционных книг является собрание сочинений Ленина. Недаром Сталин подвергает их столь жестокой цензуре, особенно при издании на иностранных языках.
Если ультиматизм вреден при всяких условиях; если в СССР он означает проживание морального капитала партии, – то он вдвойне несостоятелен в партиях Запада, которым только приходится накоплять моральный капитал. В Советском Союзе победоносная революция создала, по крайней мере, материальные предпосылки для бюрократического ультиматизма в виде аппарата репрессий. В капиталистических же странах, в том числе и в Германии, ультиматизм превращается в бессильную карикатуру и препятствует движению коммунистической партии к власти. Ультиматизм Тельмана-Реммеле прежде всего смешон. А смешное убивает, особенно когда дело идет о партии революции.
Перенесите на минуту проблему на арену Англии, где компартия (в результате гибельных ошибок сталинской бюрократии) все еще составляет ничтожную часть пролетариата. Если признать, что всякая форма единого фронта, кроме коммунистической, является «контрреволюционной», то очевидно британскому пролетариату придется отложить революционную борьбу до тех пор, пока компартия станет во главе его. Но компартия не может стать во главе класса иначе, как на основе его собственного революционного опыта. Между тем опыт не может принять революционный характер иначе, как путем вовлечения в борьбу миллионных масс. Однако, вовлечь некоммунистические массы, тем более организованные, в борьбу нельзя иначе, как на основе политики единого фронта. Мы попадаем в заколдованный круг, из которого на пути бюрократического ультиматизма выхода нет. Но революционная диалектика выход давно указала и показала его на бесчисленном количестве примеров в самых разнообразных областях: сочетание борьбы за власть с борьбой за реформы; полная самостоятельность партии при сохранении единства профсоюзов; борьба с буржуазным режимом при использовании его учреждений; непримиримая критика парламентаризма – с парламентской трибуны; беспощадная борьба с реформизмом при практических соглашениях с реформистами для частных задач.
В Англии несостоятельность ультиматизма бьет в глаза вследствие чрезвычайной слабости компартии. В Германии гибельность ультиматизма несколько маскируется значительной численностью партии и ее ростом. Но германская партия растет, благодаря давлению обстоятельств, а не политике руководства; не благодаря ультиматизму, а несмотря на него. К тому же численный рост партии не решает: решает политическое взаимоотношение между партией и классом. По этой основной линии положение не улучшается, ибо немецкая партия между собою и классом ставит колючую изгородь ультиматизма.
IV. ЗИГЗАГИ СТАЛИНЦЕВ В ВОПРОСЕ ОБ ЕДИНОМ ФРОНТЕ
Бывшая социал-демократка Торхорс (Дюссельдорф), перешедшая в компартию, в официальном докладе от имени партии говорила, в середине января, во Франкфурте: «Социал-демократические вожди уже достаточно разоблачены, и это лишь расхищение энергии маневрировать в этом направлении с единством сверху». Мы цитируем по франкфуртской коммунистической газете, которая с большой похвалой отзывается о докладе. «Социал-демократические вожди уже достаточно разоблачены». Достаточно – для самой докладчицы, которая от социал-демократии перешла к коммунистам (что, конечно, делает ей честь), но недостаточно для тех миллионов рабочих, которые голосуют за социал-демократию и терпят над собой реформистскую бюрократию профессиональных союзов.
Незачем, однако, ссылаться на отдельный доклад. В последнем из дошедших до меня воззваний «Роте Фане» (28 января) снова доказывается, что единый фронт допустимо создавать только против социал-демократических вождей и без них. Довод: «никто им не поверит из тех, кто пережил и испытал дела этих „вождей“ за последние 18 лет». А как быть, спросим мы, с теми, которые участвуют в политике меньше 18 лет и даже меньше 18 месяцев? С начала войны выросло несколько политических поколений, которые должны проделать опыт старшего поколения, хотя бы и в крайне сокращенном объеме. «Дело как раз в том, – учил Ленин ультралевых, – чтобы не принять изжитого для нас за изжитое для класса, за изжитое для масс».
Но и старшее социал-демократическое поколение, проделавшее опыт 18 лет, вовсе не порвало с вождями. Наоборот, как раз у социал-демократии остается много «стариков», связанных с партией большими традициями. Прискорбно, разумеется, что массы так медленно учатся. Но в этом добрая доля вины коммунистических «педагогов», которые не сумели наглядно обнаружить преступную природу реформизма. Надо, по крайней мере, использовать новую обстановку, когда внимание масс крайне напряжено смертельной опасностью, чтобы подвергнуть реформистов новому, может быть, на этот раз действительно решающему испытанию.
Ничуть не скрывая и не смягчая наше мнение о социал-демократических вождях, мы можем и должны сказать социал-демократическим рабочим: «Так как вы, с одной стороны, согласны бороться вместе с нами, а, с другой, все еще не хотите рвать с вашими вождями, то мы предлагаем вам: заставьте их начать совместную с нами борьбу за такие-то и такие-то практические задачи такими-то и такими-то путями; что касается нас, коммунистов, то мы готовы». Что может быть проще, яснее, убедительнее этого?
Именно в этом смысле я писал – с сознательным намерением вызвать искренний ужас или поддельное негодование тупиц и шарлатанов, – что в борьбе с фашизмом мы готовы заключать практические боевые соглашения с чертом, с его бабушкой, даже с Носке и с Цергибелем [3 - Во французском журнале «Тетради большевизма», наиболее нелепом и невежественном из всех изданий сталинской бюрократии, с жадностью ухватились за упоминание о чертовой бабушке, совершенно не догадываясь, разумеется, что оно имеет в марксистской печати очень большую историю. Недалек уж, надеемся, час, когда революционные рабочие отправят к вышеозначенной бабушке на выучку своих невежественных и недобросовестных учителей.].