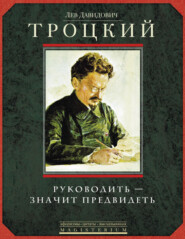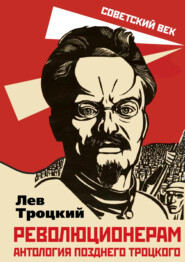По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Проблемы международной пролетарской революции. Основные вопросы пролетарской революции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда русская Советская власть разогнала Учредительное Собрание,[73 - Разгон Учредительного Собрания 5 – 7 января 1918 г. – По подсчетам правого эсера Святицкого в Учредительное Собрание было избрано 601 депутат: 338 (58 %) эсеров, из которых 239 принадлежало к правым, 69 – к украинским и 39 – к левым; 156 большевиков (25 %), 14 кадетов (5 %), 2 народных социалиста и 1 меньшевик (без Закавказья); остальная небольшая часть депутатов разбилась между кооператорами, национальными группами и др. Так как украинские с.-р. воздерживались от голосования, а кадеты совсем не явились, то соотношение сил на первом и единственном заседании 5 января было таково: 323 голоса контрреволюционного буржуазного блока и 195 голосов советских партий (большевиков и левых с.-р.). Этим была предрешена линия поведения У. С. Отклонив обсуждение «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», предложенной ЦИК, и декларации Свердлова, У. С. тем самым заявило о своем непризнании Октябрьской Революции и установленной ею Советской власти. Покинутое сначала большевиками, а затем и левыми эсерами, У. С. приняло закон о передаче земли народу и постановление об открытии мирных переговоров с Германией, желая этими запоздалыми мероприятиями облегчить себе борьбу с Советами. Однако положение У. С. было безнадежно, так как оно не имело под собой никакой социальной опоры в стране: организованные правыми эсерами в Петрограде и Москве демонстрации в защиту У. С. производили жалкое впечатление, так как не встретили никакой поддержки со стороны рабочих и солдат. В ночь с 6 на 7 января У. С. было распущено декретом ЦИК.Тактика большевиков в отношении У. С. отнюдь не являлась случайной, а вытекала из принципиальных взглядов большевизма на демократию и диктатуру пролетариата. Еще до созыва У. С. Ленин в своих «Тезисах об Учредительном Собрании» середины декабря 1917 г. писал:"Выставляя требование созыва Учредительного Собрания, революционная социал-демократия (т.-е. большевики. Ред.) с самого начала революции 1917 г. неоднократно подчеркивала, что республика Советов является более высокой формой демократизма, чем обычная буржуазная республика с Учредительным Собранием.«Для перехода от буржуазного строя к социалистическому, для диктатуры пролетариата, республика Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов является не только формой более высокого типа демократических учреждений (по сравнению с обычной буржуазной республикой при Учредительном Собрании, как венце ее), но и единственной формой, способной обеспечить наиболее безболезненный переход к социализму».Одновременно с этим Ленин предвидел и те особые причины, которые должны были вызвать несоответствие У. С. действительному соотношению сил в стране. К числу этих причин относятся: 1) раскол с.-р., проходивших в У. С. по единым спискам, после выборов, 2) производство выборов до победы Октябрьской Революции, когда трудящиеся массы не могли оценить все значение последней, 3) революция, охватив в ноябре и декабре армию и крестьянство, изменила их настроения, которые, однако, не могли уже найти свое отражение в У. С. и др. Подробнее об У. С. см. Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский» и «Выборы в У. С. и диктатура пролетариата».] этот факт показался руководящим западно-европейским социал-демократам если не началом светопреставления, то во всяком случае грубым и произвольным разрывом со всем предшествовавшим развитием социализма. Между тем, это был только неизбежный вывод из того нового положения, какое было подготовлено империализмом и войною. Если на путь подведения теоретических и практических итогов первым вступил русский коммунизм, то это по тем же историческим причинам, по которым русский пролетариат первым оказался вынужден вступить на путь борьбы за власть.
Все, что происходило после того в Европе, свидетельствует, что вывод был сделан нами правильно. Думать, что возможно восстановить демократию в ее непорочности, значит питаться жалкими реакционными утопиями.
МЕТАФИЗИКА ДЕМОКРАТИИ
Чувствуя под ногами зыбкость исторической почвы в вопросе о демократии, Каутский переходит на почву нормативной философии. Вместо исследования того, что есть, он рассуждает о том, что должно бы быть.
Принципы демократии – суверенитет народа, всеобщее и равное избирательное право, свободы – выступают у него в ореоле нравственного долженствования. Они отвлекаются от своего исторического содержания и изображаются незыблемыми и священными сами по себе. Это метафизическое грехопадение не случайно. Крайне поучительно, что и покойник Плеханов, беспощадный противник кантианства в течение лучшей поры своей деятельности, попытался под конец жизни, когда его захлестнула волна патриотизма, ухватиться за соломинку категорического императива…
Той реальной демократии, с которой теперь немецкий народ сводит опытное знакомство, Каутский противополагает некую идеальную демократию, как вульгарному явлению – вещь в себе. Каутский не указывает с уверенностью ни одной страны, демократия которой действительно способна обеспечить безболезненный переход к социализму. Зато он твердо знает, что такая демократия должна быть. Нынешнему германскому Национальному Собранию, этому органу беспомощности, реакционной злобности и униженного искательства, Каутский противопоставляет другое, настоящее, истинное Национальное Собрание, которое имеет все преимущества, кроме небольшого преимущества… реальности.
Доктриной формальной демократии является не научный социализм, а теория так называемого естественного права. Сущность последней состоит в признании вечных и неизменных правовых норм, которые у разных народов и в разные эпохи находят различное, более или менее ограниченное и искаженное выражение. Естественное право новой истории, т.-е. такое, каким оно вышло из средних веков, заключало в себе прежде всего протест против сословных привилегий, злоупотреблений деспотического законодательства и других «искусственных» продуктов феодального положительного права. Идеологи еще слишком слабого третьего сословия давали выражение его классовым интересам в некоторых идеальных нормах, которые в дальнейшем развернулись в учение о демократии, приобретая при этом индивидуалистический характер. Личность есть самоцель, все люди имеют право высказывать устно и печатно свои мысли, каждый человек должен пользоваться одинаковым избирательным правом. Как боевое знамя против феодализма, требования демократии имели прогрессивный характер. Чем дальше, однако, тем больше метафизика естественного права (= теория формальной демократии) выдвигала свою реакционную сторону: установление контроля идеальной нормы над реальными требованиями рабочих масс и революционных партий.
Если оглянуться на историческое чередование миросозерцаний, то теория естественного права представится очищенным от грубой мистики пересказом христианского спиритуализма. Евангелие объявило рабу, что у него такая же душа, как и у рабовладельца, и таким образом установило равенство всех людей перед небесным трибуналом. На деле раб оставался рабом, и повиновение вменялось ему в религиозный долг. В учении христианства раб находил мистическое выражение собственному темному протесту против своего униженного состояния. На ряду с протестом также и утешение. Христианство говорило ему: «у тебя бессмертная душа, хотя ты и похож на вьючного осла». Тут звучала нота возмущения. Но то же христианство говорило: «пусть ты подобен вьючному ослу, но зато твоей бессмертной душе уготовано вечное воздаяние». Тут слышен голос утешения. Эти две ноты сочетались в историческом христианстве по разному в различные эпохи и у разных классов. Но в общем христианство, подобно всем другим религиям, стало орудием усыпления совести угнетенных масс.
Естественное право, развившись в теорию демократии, говорило рабочему: все люди равны перед законом, независимо от их происхождения, их имущественного положения и выполняемой ими роли; каждый имеет равное право голоса в определении судеб народа. Эта идеальная норма революционизировала сознание масс, поскольку являлась осуждением абсолютизма, аристократических привилегий, имущественного ценза. Но чем дальше, тем больше она усыпляла сознание, легализуя нужду, рабство и унижение; ибо как же восставать против порабощения, раз каждый имеет равное право голоса в определении народных судеб?
Ротшильд,[74 - Ротшильд – богатейшая европейская банкирская фирма. Основатель ее Майер-Ансельм Р. (1743 – 1812) происходил из еврейской купеческой семьи во Франкфурте на Майне. Ротшильды владеют банкирскими конторами в Париже, Франкфурте, Лондоне, Вене и Неаполе. Благодаря своему колоссальному богатству, они оказывают заметное влияние на денежный европейский рынок.] который кровь и слезы мира перечеканил в наполеондоры своих барышей, имеет один голос на парламентских выборах. Темный землекоп, который не умеет подписать имени, всю жизнь спит не раздеваясь и бродит в обществе, как подземный крот, является, однако, носителем народного суверенитета и равен Ротшильду перед судом и на выборах в парламент. В реальных условиях жизни, в хозяйственном процессе, в социальных отношениях, в быту люди становились все более и более неравны друг другу: нагромождение ослепительной роскоши на одном полюсе, бедность и безнадежность – на другом. Но в области государственно-правовой надстройки эти зияющие противоречия исчезали; туда проникали лишь бесплотные юридические тени. Помещик, батрак, капиталист, пролетарий, министр, чистильщик сапог – все равны, как «граждане», как «законодатели». Мистическое равенство христианства сделало с небес шаг вниз в лице естественно-правового равенства демократии. Но оно не спустилось на землю к экономическому фундаменту общества. Для темного поденщика, который всю свою жизнь оставался вьючным скотом на службе буржуазии, идеальное право влиять на судьбы народа через посредство парламентских выборов оставалось немногим более реально, чем то блаженство, которое было обещано ему в царствии небесном.
В практических интересах развития рабочего класса социалистическая партия стала в известную эпоху на путь парламентаризма. Но это вовсе не значило, что она принципиально признала метафизическую теорию демократии, покоящуюся на началах над-исторического, над-классового права. Пролетарская доктрина рассматривала демократию, как служебный инструмент буржуазного общества, целиком приспособленный к задачам и потребностям господствующих классов. Но так как буржуазное общество жило трудом пролетариата и не могло отказать ему в легализации некоторой части его классовой борьбы, не разрушая себя, то этим открывалась для социалистической партии возможность использовать в известный период и в известных пределах механику демократии, отнюдь не присягая ей, как незыблемому принципу.
Основная задача партии во все эпохи ее борьбы состояла в том, чтобы создать условия реального, хозяйственного, бытового равенства для людей, как членов солидарного человеческого общежития. Именно поэтому и для этого теоретики пролетариата должны были разоблачить метафизику демократии, философское прикрытие политических мистификаций.
Если демократическая партия в эпоху своего революционного подъема, разоблачая гнетущую и усыпляющую ложь церковной догмы, проповедовала массам: «вас убаюкивают вечным блаженством по ту сторону жизни, а здесь вы бесправны и опутаны цепями произвола», – то социалистическая партия несколькими десятилетиями спустя с не меньшим правом говорила тем же массам: «вас усыпляют фикцией гражданского равенства и политических прав, но у вас отнята возможность реализовать эти права; условное и призрачное юридическое равенство превращено в идеальную цепь каторжника, которою каждый из вас прикован к колеснице капитала».
Во имя своей основной задачи, социалистическая партия мобилизовала массы также и на основе парламентаризма, но нигде и никогда партия, как таковая, не обязывалась привести массы к социализму не иначе, как через ворота демократии. Приспособляясь к парламентскому режиму, мы ограничивались в предшествующую эпоху теоретическим разоблачением демократии, потому что были еще слишком слабы, чтобы практически преодолеть ее. Но идейная орбита социализма, которая вырисовывается сквозь все уклонения, падения и даже измены, предопределила именно такой исход: отбросить демократию и заменить ее рабочим механизмом пролетариата в тот момент, когда этот последний окажется достаточно силен для выполнения такой задачи.
Мы приведем одно свидетельство, но достаточно яркое. "Парламентаризм, – писал Поль Лафарг,[75 - Поль Лафарг (1842 – 1911) – зять К. Маркса и выдающийся французский социалист. В молодости был прудонистом. После знакомства с К. Марксом в 1865 году сделался приверженцем научного социализма. Принял активное участие в деятельности Парижской Коммуны. Лафарг пытался в провинции (в Бордо) вызвать движение в пользу Коммуны, но, после неудачи, вынужден был бежать в Испанию. В Испании, а затем в Португалии, Лафарг принял активное участие в рабочем движении, организовывая секции Интернационала и ведя борьбу с бакунинским влиянием. Принял деятельное участие в работах Гаагского конгресса I Интернационала в 1872 г. После возвращения в Париж в 1880 г. он стал сотрудником органа Гэдистской рабочей партии «Egalite». С этого же времени становится вождем французской социалистической партии и ее признанным теоретиком. Лафарг старался привить французскому рабочему движению выдержанный ортодоксальный марксизм. Мильеранизм и ревизионизм встретили в нем жестокого врага. Перу П. Лафарга принадлежит ряд выдающихся научных трудов и брошюр. Его книги: «Эволюция собственности» и «Исторический детерминизм К. Маркса» переведены на все европейские языки. В глубокой старости, сознавая свою непригодность к активной партийной работе, вместе со своей женой Лаурой покончил жизнь самоубийством.] в русском сборнике «Социал-Демократ» в 1888 г., – есть такая правительственная система, при которой у народа является иллюзия, будто он сам управляет делами страны, тогда как в действительности фактическая власть сосредоточивается при этом в руках буржуазии, и даже не всей буржуазии, а лишь некоторых слоев этого класса. В первый период своего господства буржуазия не понимает или, вернее, не чувствует необходимости создавать для народа иллюзию самоуправления. Поэтому все парламентские страны Европы начинали с ограниченной подачи голосов; повсюду право давать направление политике страны, посредством избрания депутатов, принадлежало вначале лишь более или менее крупным собственникам и затем уже постепенно распространялось на менее состоятельных граждан, пока, в некоторых странах, не превратилось из привилегии во всеобщее право всех и каждого.
«В буржуазном обществе, чем значительнее становится масса общественного богатства, тем меньшим и меньшим числом личностей она присваивается; то же происходит и с властью: по мере того, как растет масса граждан, обладающих политическими правами, и увеличивается число избираемых правителей, действительная власть сосредоточивается и становится монополией все меньшей и меньшей группы личностей». Таково таинство большинства.
Для марксиста Лафарга парламентаризм остается до тех пор, пока сохраняется господство буржуазии. «В тот день, – пишет Лафарг, – когда пролетариат Европы и Америки овладеет государством, он должен будет организовать революционную власть и диктаторски управлять обществом, пока буржуазия не исчезнет, как класс».
Каутский в свое время знал эту марксистскую оценку парламентаризма и не раз повторял ее сам, хотя и не с такой галльской ясностью и остротой. Теоретическое отступничество Каутского в том именно и состоит, что, признав принцип демократии абсолютным и незыблемым, он от материалистической диалектики вернулся вспять к естественному праву. То, что было разоблачено марксизмом, как передаточный механизм буржуазии, и лишь подлежало временному политическому использованию, в целях подготовки революции пролетариата, снова освящено Каутским, как верховное начало, стоящее над классами и безусловно подчиняющее себе методы пролетарской борьбы. Контрреволюционное вырождение парламентаризма нашло свое наиболее законченное выражение в обоготворении демократии упадочными теоретиками II Интернационала.
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Вообще говоря, достижение партией пролетариата большинства в демократическом парламенте не является безусловной невозможностью. Но такой факт, даже если бы он осуществился, не вносил бы ничего принципиально нового в развитие событий. Промежуточные элементы интеллигенции, под влиянием парламентской победы пролетариата, оказали бы, может быть, меньшее противодействие новому режиму. Но основное сопротивление буржуазии определялось бы такими факторами, как настроение армии, степень вооружения рабочих, положение в соседних государствах; и гражданская война развивалась бы под давлением этих реальнейших обстоятельств, а не зыбкой арифметики парламентаризма.
Наша партия не отказывалась открыть дорогу диктатуре пролетариата через ворота демократии, отдавая себе ясный отчет в известных агитационно-политических преимуществах такого «легализованного» перехода к новому режиму. Отсюда наша попытка созвать Учредительное Собрание. Эта попытка потерпела неудачу. Русский крестьянин, только пробужденный революцией к политической жизни, оказался лицом к лицу с полудюжиной партий, из которых каждая как бы поставила себе целью сбить его с толку. Учредительное Собрание стало поперек пути революционному движению – и было сметено.
Соглашательское большинство Учредительного Собрания представляло собою только политическое отражение недомыслия и нерешительности промежуточных слоев города и деревни и более отсталых частей пролетариата. Если стать на точку зрения отвлеченных исторических возможностей, то можно сказать, что было бы менее болезненно, если бы Учредительное Собрание, проработав год-два, окончательно дискредитировало эсеров и меньшевиков их связью с кадетами и тем привело бы к формальному перевесу большевиков, показав массам, что на деле существуют лишь две силы: революционный пролетариат, руководимый коммунистами, и контрреволюционная демократия, возглавляемая генералами и адмиралами. Но вся суть в том, что темп развития внутренних отношений революции вовсе не шел нога в ногу с темпом развития международных отношений. Если бы наша партия возложила всю ответственность на объективную педагогику «хода вещей», то развитие военных событий могло опередить нас. Германский империализм мог овладеть Петербургом, к эвакуации которого правительство Керенского приступило вплотную. Гибель Петербурга означала бы тогда смертельный удар пролетариату, ибо все лучшие силы революции сосредоточивались там, в Балтийском флоте и в красной столице.
Нашу партию можно обвинять, следовательно, не в том, что она пошла наперекор историческому развитию, а в том, что она совершила прыжок через несколько политических ступенек. Она перешагнула через голову меньшевиков и эсеров, чтобы не дать германскому милитаризму перешагнуть через голову русского пролетариата и заключить мир с Антантой на спине революции прежде, чем она успеет на весь мир расправить свои крылья.
Из сказанного не трудно вывести ответы на те два вопроса, которыми донимает нас Каутский. Во-первых, зачем мы созывали Учредительное Собрание, раз имели в виду диктатуру пролетариата? Во-вторых, если первое Учредительное Собрание, которое мы сочли нужным созвать, оказалось отсталым и не отвечающим интересам революции, почему отказываемся мы от созыва нового Учредительного Собрания? Задняя мысль Каутского та, что мы отвергли демократию не по принципиальным причинам, а только потому, что она оказалась против нас. Чтобы поймать эту инсинуацию за ее длинные уши, восстановим факты.
Лозунг «вся власть Советам» был выдвинут нашей партией с самого начала революции, т.-е. задолго не только до роспуска Учредительного Собрания, но и до декрета об его созыве. Правда, мы не противопоставляли Советов будущему Учредительному Собранию, созыв которого все более оттягивался правительством Керенского[76 - А. Керенский – по образованию юрист, до революции 1917 года занимался адвокатской деятельностью. Был членом Государственной Думы, где примыкал к трудовикам. Керенский накануне революции был видным членом думской оппозиции. После февральской революции был товарищем председателя Петербургского Совета. Вошел в сформировавшееся после февраля 1917 г. буржуазное правительство, вопреки постановлению Совета о недопущении вхождения социалистов в правительство кн. Львова. После отставки Гучкова занял пост военного и морского министра. В течение дальнейшего хода февральской революции главная фигура коалиционных министерств, сменивших буржуазное правительство. Накануне Октября, Керенский был премьером, военным министром и Главковерхом. Основная черта политической физиономии Керенского – смесь революционной фразеологии с авантюризмом и бонапартизмом. Однако, по объективным результатам своей политической деятельности, Керенский был орудием крупной русской и иностранной буржуазии, политику которой он по существу и проводил. Будучи социал-патриотом во время войны, он 18 июня 1917 г. в угоду крупному финансовому капиталу Англии и Франции снова возобновил войну с германцами. В сентябре 1917 г., желая спасти устои буржуазного образа правления, он втягивается в корниловскую авантюру. Окончательно скомпрометированный, он сметается Октябрьской Революцией. Сейчас находится в эмиграции за границей. (Подробнее см. т. III, ч. I, прим. 11.)] и потому становился все более проблематичным, но мы, во всяком случае, не рассматривали Учредительного Собрания, по образцу мелкобуржуазных демократов, как будущего хозяина земли русской, который придет и все разрешит. Мы выяснили массам, что подлинным хозяином могут и должны стать революционные организации самих трудящихся масс – Советы. Если мы не отвергли формально Учредительного Собрания заранее, то потому лишь, что оно противопоставлялось не власти Советов, а власти самого Керенского, который, в свою очередь, был только вывеской буржуазии. При этом нами было решено заранее, что если бы в Учредительном Собрании большинство оказалось за нас, то Учредительное Собрание должно было распустить себя, передав власть Советам, как это сделала впоследствии Петербургская городская дума, избранная на основе самого демократического избирательного права. В своей книжке «Октябрьская Революция» я старался выяснить те причины, по которым Учредительное Собрание явилось запоздалым отражением эпохи, уже превзойденной революцией. Так как организацию революционной власти мы видели только в Советах и так как ко времени созыва Учредительного Собрания Советы были уже фактическою властью, то вопрос и решался для нас неизбежно в сторону насильственного роспуска Учредительного Собрания, которое само не желало распустить себя в пользу власти Советов.
ТЕРРОРИЗМ И КОММУНИЗМ
Но почему, – спрашивает Каутский, – вы не созываете нового Учредительного Собрания?
Потому, что не видим в нем нужды. Если первое Учредительное Собрание могло еще сыграть мимолетную прогрессивную роль, дав убедительную для мелкобуржуазных элементов санкцию режиму Советов, который только устанавливался, то теперь, после двух лет победоносной диктатуры пролетариата и полного крушения всех демократических попыток в Сибири, на беломорском побережье, на Украине, на Кавказе, – власть Советов, поистине, не нуждается в освящении подмоченным авторитетом Учредительного Собрания. Не в праве ли мы в таком случае заключить, – вопрошает Каутский в тон Ллойд-Джорджу, – что Советская власть правит волею меньшинства, раз она уклоняется от проверки своего господства всеобщим голосованием? Вот удар, который бьет мимо цели!
Если парламентский режим даже в эпоху «мирного», устойчивого развития был довольно грубым счетчиком настроений в стране, а в эпоху революционной бури совершенно утратил способность поспевать за ходом борьбы и развитием политического сознания, то советский режим, несравненно ближе, органичнее, честнее связанный с трудящимся большинством народа, главное свое значение полагает не в том, чтобы статически отражать большинство, а в том, чтобы динамически формировать его. Вставши на путь революционной диктатуры, рабочий класс России тем самым сказал, что свою политику в переходный период он строит не на призрачном искусстве соревнования с хамелеонскими партиями в целях уловления крестьянских голосов, а на фактическом вовлечении крестьянских масс, рука об руку с пролетариатом, в дело управления страной в подлинных интересах трудящихся масс. Эта демократия поглубже парламентаризма!
Сейчас, когда главная задача – вопрос жизни и смерти – революции состоит в военном отпоре бешеному натиску белогвардейских банд, думает ли Каутский, что какое угодно парламентское «большинство» способно обеспечить более энергичную и самоотверженную, более победоносную организацию революционной обороны? Условия борьбы настолько отчетливы в революционной стране, сдавленной за горло подлым кольцом блокады, что перед всеми промежуточными классами и группами остается лишь возможность выбора между Деникиным и Советской властью. Какое нужно еще доказательство, когда даже партии, межеумочные по принципу, как меньшевики и эсеры, раскололись по той же самой линии!
Предлагая нам выборы в учредилку, полагает ли Каутский приостановить на время выборов гражданскую войну? Чьим решением? Если он намеревается привести для этого в движение авторитет II Интернационала, то спешим его предупредить, что это учреждение пользуется у Деникина лишь немного большим авторитетом, чем у нас. Поскольку же война между рабоче-крестьянской армией и бандами империализма продолжается, и выборы должны по необходимости ограничиться советской территорией, хочет ли Каутский требовать, чтоб мы позволили открыто выступать партиям, которые поддерживают Деникина против нас? Пустая и презренная болтовня: ни одно правительство никогда и ни при каких условиях не может позволить воюющей с ним стороне в тылу у собственных армий мобилизовать вражеские силы.
Не последнее место в вопросе занимает и тот факт, что цвет трудового населения находится сейчас в действующих войсках. Передовые пролетарии и наиболее сознательные крестьяне, которые при всяких выборах, как и при всяком массовом политическом действии, стоят на первом месте, направляя общественное мнение трудящихся, они все сейчас борются и умирают в качестве командиров, комиссаров или рядовых бойцов Красной Армии. Если самые «демократические» правительства буржуазных государств, режим которых основан на парламентаризме, считали невозможным во время войны производить выборы в парламент, то тем более бессмысленно требовать таких выборов во время войны от Советской Республики, режим которой ни в малой мере не основан на парламентаризме. Вполне достаточно того, что своим выборным учреждениям – местным и центральным Советам – революционная власть России не препятствовала в самые тяжкие месяцы и дни обновляться путем периодических перевыборов.
Наконец, в качестве последнего довода – the last not least, – приходится к сведению Каутского сказать, что даже русские каутскианцы, меньшевики, как Мартов и Дан,[77 - Дан – один из наиболее выдающихся вождей меньшевиков. Дан всегда стоял на крайне правом крыле меньшевизма. Во время реакции после 1905 г. был главным глашатаем ликвидаторства, стремившегося к полной ликвидации подпольных организаций. Во время империалистской войны занимал позицию умеренного циммервальдизма. После февральской революции – член президиума меньшевистского ЦИК и сторонник коалиции с буржуазией. После Октября активный враг Советской власти. Неоднократно арестовывался за анти-советскую подпольную деятельность. В настоящее время, после смерти Мартова, главный лидер меньшевиков, один из редакторов «Социалистического Вестника», издающегося в Берлине. (Подробнее см. т. III, ч. 1, прим. 122.)] не считают возможным выдвигать в настоящее время требование Учредительного Собрания, откладывая его до лучшего будущего. Понадобится ли оно тогда? В этом позволительно усомниться. Когда закончится гражданская война, диктатура рабочего класса раскроет всю свою творческую силу и на деле покажет наиболее отсталым массам, что может им дать. Путем планомерно проведенной трудовой повинности и централизованной организации распределения все население страны будет вовлечено в общесоветскую систему хозяйства и самоуправления. Сами Советы, ныне органы власти, постепенно растворятся в чисто-хозяйственных организациях. При этих условиях вряд ли кому придет в голову над реальной тканью социалистического общества воздвигать архаическое увенчание в виде Учредительного Собрания, которому пришлось бы только констатировать, что все нужное «учреждено» уже до него и без него[2 - Чтобы прельстить нас в пользу Учредительного Собрания, на помощь доводам от категорического императива Каутский приводит аргумент от валюты. «России необходима, – пишет он, – помощь иностранного капитала, но эта помощь не придет к Советской Республике, если последняя не созовет Учредительного Собрания и не даст свободы печати, не потому, чтобы капиталисты были демократическими идеалистами, – они царизму давали без размышления многие миллиарды, – но они не имеют делового доверия к революционному правительству» (стр. 144).]. В этой пачкотне есть осколки истины. Биржа действительно поддерживала правительство Колчака, когда он опирался на Учредительное Собрание. Но биржа стала еще энергичнее поддерживать Колчака, когда он разогнал Учредительное Собрание. На опыте Колчака биржа укрепилась в своем убеждении, что механика буржуазной демократии может быть использована в капиталистических целях, а затем отброшена, как изношенная портянка. Вполне возможно, что биржа снова дала бы некоторую предварительную ссуду под залог Учредительного Собрания в убеждении, вполне обоснованном прошлым опытом, что Учредительное Собрание явится только переходной ступенью к капиталистической диктатуре. Покупать «деловое доверие» биржи такою ценою мы не собираемся и решительно предпочитаем то «доверие», которое внушает реалистической бирже оружие Красной Армии.
IV. ТЕРРОРИЗМ
Главной темой книжки Каутского является терроризм. Воззрение, будто терроризм принадлежит к существу революции, Каутский объявляет широко распространенным заблуждением. Неверно, будто бы тот, «кто хочет революции, должен мириться с терроризмом». Что касается его, Каутского, то он, вообще говоря, за революцию, но решительно против терроризма. Дальше, однако, начинаются затруднения.
«Революция приносит нам, – жалуется Каутский, – кровавый терроризм, проводимый социалистическими правительствами. Большевики в России вступили первые на этот путь и суровейшим образом осуждались поэтому всеми социалистами, не стоявшими на большевистской точке зрения, в том числе и социалистами немецкого большинства. Но как только последние почувствовали себя угрожаемыми в своем господстве, они прибегли к методам того же террористического режима, который они клеймили на востоке» (стр. 9). Казалось бы, отсюда следовало сделать вывод, что терроризм гораздо глубже связан с природой революции, чем это думали кой-какие мудрецы. Но Каутский делает вывод прямо противоположный: гигантское развитие белого и красного терроризма во всех последних революциях – русской, германской, австрийской и венгерской – свидетельствует для него о том, что эти революции отклонились от своего подлинного пути и оказались не теми революциями, какими они должны бы быть согласно теоретическим сновидениям Каутского. Не углубляясь в обсуждение вопроса, – «имманентен» ли терроризм, «как таковой», революции, «как таковой», остановимся на примере нескольких революций, как они проходили перед нами в живой человеческой истории.
Напомним сперва религиозную реформацию,[78 - Религиозная реформация – социальное движение в XVI столетии, охватившее мелкую буржуазию городов и широкие круги крестьянства, направленное против средневековой эксплуатации во всех ее видах. По условиям того времени оно неизбежно должно было принять религиозную форму ввиду неразвитости общественных отношений и преобладания церковности во всех областях гражданской жизни. Коренной причиной реформации является экономический гнет господствующих классов: духовенства во главе с папой, патрициата городов и феодалов в деревнях. Наряду с этим большую роль также сыграло разложение католической церкви, выродившейся в голое орудие насилия и вымогательства и превратившей религию в свод безжизненных формальностей и обрядов. Могущественным толчком к началу реформации послужили великие открытия XIV и XV в.в. (изобретение книгопечатания, усовершенствование артиллерии, открытие Америки и т. д.), расширившие умственный кругозор и способствовавшие развитию критической мысли буржуазии. Реформационное движение было начато Лютером в 1520 году (сожжение папской буллы) и швейцарскими проповедниками, протестовавшими против продажи папских индульгенций (1518 г. – Цвингли). Внешним результатом реформационного движения явилось новое христианское учение – протестантизм в обеих его формах – лютеранской и реформатской церкви. Социальный же результат заключался в эмансипации торговой буржуазии от пут феодального строя. Реформационное движение ознаменовалось, на протяжении десятилетий, кровавыми столкновениями между враждующими лагерями. Наиболее выдающимися событиями этого рода являются: крестьянская война в Германии, Мюнстерское восстание, 30-летняя война и т. д.] вошедшую водоразделом между средневековой и новой историей: чем более глубокие интересы народных масс она захватывала, тем шире был ее размах, тем свирепее развертывалась под религиозным знаменем гражданская война, тем беспощаднее становился на обеих сторонах террор.
В семнадцатом веке Англия проделала две революции: первая, вызвавшая большие социальные потрясения и войны, привела, между прочим, к казни короля Карла I, а вторая – благополучно завершилась восшествием на престол новой династии. Английская буржуазия и ее историки совершенно по разному относятся к этим революциям: первая для них – бесчинство черни, «великий бунт»; за второй укрепилось название «славной революции». Причину такого различия в оценках разъяснил еще французский историк Огюстен Тьерри.[79 - Огюстен Тьерри (1795 – 1856 г.г.) – выдающийся французский историк. В своих трудах подчеркивал значение экономического и социального фактора в объяснении исторических событий. Наиболее замечательны следующие его сочинения: «История завоевания Англии норманнами», «Письма об истории Франции», «Рассказы из времен Меровингов» и др., имеющиеся в русском переводе.] В первой английской революции, в «великом бунте», действующим лицом был народ, во второй – он почти «безмолвствовал». Отсюда вытекает, что в обстановке классового рабства трудно обучить угнетенные массы хорошим манерам. Выведенные из себя, они действуют поленом, камнем, огнем и веревкой. Придворные историки эксплуататоров бывают оскорблены. Но великим событием в историю новой (буржуазной) Англии вошла, тем не менее, не «славная» революция, а «великий бунт».
Величайшим после реформации и «великого бунта» событием новой истории, далеко превосходящим два предшествующие по значению, является Великая Французская Революция XVIII столетия. Этой классической революции отвечал классический терроризм. Каутский готов простить террор якобинцам, признавая, что другими мерами им бы не спасти республики. Но от этого оправдания задним числом никому ни тепло, ни холодно. Каутские конца XVIII столетия (лидеры французских жирондистов[80 - Жирондисты – представители крупной, торгово-промышленной буржуазии в период Великой Французской Революции. Свое название получили от департамента Жиронды (Гаронны), где они были особенно сильны. Жирондисты, защищая интересы своего класса, были противниками какого бы то ни было ограничения свободы торговли, установления такс и прочих мер, выдвигавшихся широкими трудящимися массами как способ борьбы с тяжелым продовольственным положением. На этой почве и возникли первые разногласия между двумя группами так называемого «третьего сословия» – либеральной буржуазией и радикальной демократией. Эти разногласия, являясь отражением классовых противоречий, все больше углублялись и, в конце концов, вылились в ожесточенную борьбу за власть между жирондистами и якобинцами. Добившись отмены стеснительных для капиталистического развития Франции феодальных привилегий дворянства и получив для себя политическую свободу, жирондисты стремились затормозить дальнейшее движение революции, которое неизбежно должно было нанести ущерб интересам буржуазии. Став у власти в марте 1792 г., жирондисты продержались только до июня 1793 г., когда они, под напором вооруженных масс Парижа, требовавших введения «всеобщего максимума» на все предметы первой необходимости, были вынуждены уступить власть представителям мелкой буржуазии – якобинцам. Наиболее выдающимися вождями жирондистов были Бриссо, Верньо, Иснар, Роллан и др.]) видели в якобинцах[81 - Якобинцы – политическая партия во Франции, в эпоху Великой Французской Революции 1789 г., получившая свое название от клуба, находившегося в монастыре св. Якова. Якобинская партия по своему социальному составу и политической программе была не однородна, она разделялась на правое крыло, во главе с Дантоном, отражавшее интересы городской мелкобуржуазной интеллигенции; центр, во главе с Робеспьером, представлявший по преимуществу интересы городской мелкой буржуазии (лавочников, мастеров и пр.) и левое крыло, во главе с Маратом, позже Гебером и Шометом, отражавшее интересы ремесленного пролетариата.Во Французском Конвенте наиболее влиятельное положение занимала часть партии, возглавлявшаяся Робеспьером. Социально-политическая программа этой части партии не выходила из рамок потребностей мелких собственников. Якобинцы энергично добивались закрепления во Франции демократической республики. Вели непримиримую борьбу с крупной французской буржуазией и их представителями в Конвенте (жирондистами, см. прим. 80), стремясь к сглаживанию крайностей экономического неравенства.2 июня 1793 года якобинцы при поддержке парижского пролетариата и беднейшей мелкой буржуазии совершили государственный переворот, опрокинув правящую буржуазную партию Конвента – жирондистов. Основной причиной недовольства масс, во главе которых стали якобинцы, была борьба за нормирование предметов первой необходимости (таксация цен на хлеб) и установление прогрессивно-подоходного налога с освобождением минимальных доходов от всякого обложения. Диктатура мелкой буржуазии в лице якобинцев продолжалась до 27 июля 1794 года (день падения Робеспьера).В течение своего кратковременного правления якобинцы провели целый ряд важных революционных мероприятий: принудительный заем у буржуазии в форме прогрессивно-подоходного налога, ограничение права наследования. В интересах городской бедноты была введена оплата посещения заседаний секций в размере 75 коп. в день; в интересах крестьянства, давно уже настаивавшего на пересмотре земельных законов Учредительного и Законодательного Собраний, Конвент отменил все и всякие феодальные повинности, без всякого выкупа. С такой же энергией якобинцы боролись на военном фронте как с внешними, так и внутренними врагами, террористическими мерами подавляя контрреволюционные заговоры и восстания.Якобинство в истории стало символом крайнего решительного революционного действия, в противоположность жирондизму, воплотившему в себе оппортунизм и нерешительность буржуазных классов во время революции. «Якобинец, связанный с широкими массами рабочего класса – это и есть современный (революц.) социал-демократ», – писал т. Ленин.] исчадие зла. Вот достаточно поучительное в своей банальности сопоставление якобинцев с жирондистами под пером одного из мещанских французских историков. «Как одни, так и другие хотели республики»… Но жирондисты «хотели республики свободной, законной, милостивой. Монтаньяры желали (!) республики деспотической и ужасной. И те и другие стояли за верховную власть народа; но жирондисты справедливо понимали под народом всех; для монтаньяров же… народом был лишь трудящийся класс; поэтому одним этим людям и должно было, по мнению монтаньяров, принадлежать господство». Антитеза между великодушными рыцарями учредилки и кровожадными проводниками революционной диктатуры намечена здесь достаточно полно только в политических терминах эпохи.
Железная диктатура якобинцев была вызвана чудовищно-тяжким положением революционной Франции. Вот как рассказывает об этом буржуазный историк: «Иностранные войска вступили с четырех сторон на французскую территорию: с севера – англичане и австрийцы, в Эльзасе – пруссаки, в Дофинэ и до Лиона – пьемонтцы, в Руссильоне – испанцы. И это в такое время, когда гражданская война свирепствовала в четырех различных пунктах: в Нормандии, в Вандее, в Лионе и в Тулоне» (стр. 176). К этому надо прибавить внутренних врагов, в виде многочисленных тайных сторонников старого порядка, готовых всеми средствами помогать неприятелю.
Суровость пролетарской диктатуры в России – скажем тут же – была обусловлена не менее тяжкими обстоятельствами. Сплошной фронт на севере и юге, западе и востоке. Кроме русских белогвардейских армий Колчака, Деникина и пр., против Советской России выступают одновременно или поочередно: немцы и австрийцы, чехо-словаки, сербы, поляки, украинцы, румыны, французы, англичане, американцы, японцы, финны, эстонцы, литовцы… В стране, охваченной блокадой, задыхающейся от голода, непрерывные заговоры, восстания, террористические акты, разрушение складов, путей и мостов.
«У правительства, взявшего на себя борьбу с бесчисленными внешними и внутренними врагами, не было ни денег, ни достаточного войска – ничего, кроме безграничной энергии, горячей поддержки со стороны революционных элементов страны и громадной смелости принимать все меры для спасения родины, как бы произвольны, беззаконны и суровы они ни были». Такими словами характеризовал некогда Плеханов правительство… якобинцев («Социал-Демократ». Трехмесячное литературно-политическое обозрение. 1890 г., февраль, книга первая. Лондон. Статья «Столетие Великой Революции», стр. 6 – 7).
Обратимся к революции, которая произошла во второй половине XIX столетия, в стране «демократии», в Соединенных Штатах Северной Америки. Хотя речь шла отнюдь не об отмене частной собственности вообще, а только об отмене собственности на чернокожих, тем не менее, учреждения демократии оказались совершенно неспособны мирным путем разрешить конфликт. Южные штаты, разбитые на выборах президента в 1860 году, решили какими угодно мерами возвратить себе влияние, которым они до того располагали в интересах рабовладения, и, произнося, как полагается, звонкие слова о свободе и независимости, встали на путь рабовладельческого мятежа. Отсюда неизбежно вытекли все дальнейшие последствия гражданской войны. Уже в самом начале борьбы военная власть в Балтиморе заключила в форт Мак-Гэнри несколько граждан, сторонников рабовладельческого юга, несмотря на «habeas corpus». Вопрос о законности или незаконности подобных действий сделался предметом горячего спора между так называемыми «высшими авторитетами». Верховный судья Тэней решил, что президент не имеет права ни останавливать действие «habeas corpus», ни давать на то полномочия военным властям. «Таково, по всей вероятности, правильное конституционное разрешение этого вопроса, – говорит один из первых историков американской войны. – Но положение дел было до такой степени критическое, и необходимость принять решительные меры против населения Балтиморы до такой степени велика, что не только правительство, но и народ Соединенных Штатов поддерживал самые энергичные меры» («История американской войны», соч. Флетчера, подполковника гвардейских шотландских стрелков, перевод с английского, С.-Петербург 1867 г., стр. 95).
Некоторые предметы, в которых нуждался мятежный юг, доставлялись тайно северными купцами. Конечно, северянам не оставалось ничего другого, как прибегнуть к репрессиям. 6 августа 1861 г. утверждено было президентом постановление конгресса «о конфискации собственности, употребляемой для инсуррекционных целей». Народ, в лице наиболее демократических слоев, был в пользу крайних мер, республиканская партия имела на севере решительное преобладание, и люди, подозреваемые в сецессионизме, т.-е. поддержке раскольнических южных штатов, подвергались насилиям. В некоторых северных городах и даже в славившихся своими порядками штатах Новой Англии народ нередко врывался в конторы журналов, поддерживавших мятежных рабовладельцев, и разбивал их печатные станки. Случалось, что реакционных издателей вымазывали дегтем, украшали перьями и возили в таком виде по площадям, пока не вынуждали присягнуть в верности Союзу. Смазанная дегтем плантаторская личность мало походила на «самоцель», так что категорический императив Канта терпел в гражданской войне штатов немалый урон. Но это не все. «Правительство, с своей стороны, – рассказывает нам историк, – принимало разного рода карательные меры против изданий, которые держались несогласных с ним мнений, и в короткое время свободная до сих пор американская пресса очутилась в положении едва ли лучшем, чем в автократических европейских государствах». Той же участи подверглась и свобода слова. «Таким образом, – продолжает подполковник Флетчер, – американский народ отказался в это время от большей части своей свободы. Надо заметить, – нравоучительно прибавляет он, – что большинство народа было до такой степени поглощено войною и до такой степени проникнуто готовностью на всякого рода жертвы для достижения своей цели, что не только не сожалело об утраченной свободе, но даже почти этого не замечало» («История американской войны», стр. 162 – 164).
Несравненно беспощаднее действовали кровожадные рабовладельцы юга со своей разнузданной челядью. «Повсюду, где образовалось большинство в пользу рабовладения, – рассказывает граф Парижский, – общественное мнение деспотически относилось к меньшинству. Всех, кто сожалел о национальном знамени…, принудили замолчать. Но скоро и это оказалось недостаточным; как и при всякой революции, равнодушных принудили выразить свою преданность новому порядку вещей… Те, которые не согласились на это, были отданы в жертву ненависти и насилия народной толпы… В каждом центре рождающейся цивилизации (юго-западных штатов) образовались комитеты бдительности из всех тех, которые отличались крайностями в избирательной борьбе… Кабак был обыкновенным местом их заседаний, и шумная оргия смешивалась с презренной пародией державных форм правосудия. Несколько бешеных людей, сидевших вокруг конторки, на которой лились джин и виски, судили своих присутствующих и отсутствующих сограждан. Обвиняемый, прежде чем был спрошен, уже видел, как приготовляли роковую веревку. Не явившийся в суд узнавал свой приговор, падая под пулей палача, притаившегося за углом леса»… Эта картина очень напоминает те сцены, какие изо дня в день разыгрываются в стане Деникина, Колчака, Юденича и других героев англо-французской и американской «демократии».
Как обстоял вопрос о терроризме в отношении Парижской Коммуны 1871 года, мы увидим ниже. Во всяком случае попытки Каутского противопоставить нам Коммуну – несостоятельны в корне и лишь доводят автора до словесных вывертов самого низкопробного качества.
Институт заложников, по-видимому, надо признать «имманентным» терроризму гражданской войны. Каутский против терроризма и против института заложников, но за Парижскую Коммуну (NB: Коммуна жила пятьдесят лет тому назад). Между тем, Коммуна брала заложников. Получается затруднение. Но зачем же существует искусство экзегетики?
Декрет Коммуны о заложниках и об их расстреле в ответ на зверства версальцев возник, по глубокомысленному толкованию Каутского, «из стремления сохранить человеческие жизни, а не уничтожать их». Превосходное открытие! Его нужно только расширить. Можно и должно пояснить, что в гражданской войне мы истребляем белогвардейцев для того, чтобы они не истребляли рабочих. Стало быть, задачей нашей является не истребление жизней, а их сохранение. Но так как бороться за сохранение жизней приходится с оружием в руках, то это приводит к истреблению жизней – загадка, диалектический секрет которой был разъяснен стариком Гегелем,[82 - Гегель (1770 – 1831) – великий немецкий философ-идеалист, оказавший исключительное влияние на развитие западно-европейской и русской общественной мысли в 40 – 60 годах прошлого века (Белинский, Герцен, Чернышевский, Бакунин и пр.). В противоположность метафизическому образу мышления, господствовавшему в научной мысли в XVIII столетии, рассматривавшему объективный мир и его отражения в человеческой голове под углом зрения безусловности и обособленности, Гегель выдвинул диалектический метод, который, наоборот, обязывал изучать окружающую природу и человеческую историю в их движении и взаимной связи. С точки зрения Гегеля нет ничего неизменного и постоянного. Наоборот, все течет, все изменяется, все находится в беспрерывном движении, но это движение совершается не эволюционно, а диалектически, т.-е. путем противоречий. По Гегелю абсолютное понятие, или абсолютный дух, есть основа всего существующего. Развитие этого абсолютного духа по имманентным законам и составляет диалектический процесс. «С этой точки зрения процесс развития, совершаемый природой и человечеством, есть лишь копия самостоятельного развития понятия, совершающегося вечно, неизвестно где, но независимо от человеческого сознания, так как сама природа и человек рассматриваются Гегелем, как инобытие духа» (Энгельс, Анти-Дюринг). Маркс и Энгельс, ученики Гегеля, после основательной критики всей гегелевской философии, в корне видоизменили идеалистическую диалектику. Коренное изменение, которое было ими внесено в гегелевскую диалектику, заключалось в переходе на материалистическую точку зрения. Абсолютный дух Гегеля был отброшен, его место заняла материя.«Диалектика, которая, таким образом, была сведена к науке об общих законах движения как во внешней природе, так и в человеческом мышлении, получила существенно иное содержание. Именно материальный мир рассматривался не как комплекс готовых вещей, но как комплекс процессов, в которых вещи, кажущиеся нам неизменными, равно как и их мысленное отражение в нашей голове, т.-е. понятия, проходят беспрерывно смену возникновения и уничтожения» (Энгельс, Анти-Дюринг).] не считая еще более древних мудрецов.
Коммуна могла удержаться и окрепнуть только путем жестокой борьбы с версальцами. У версальцев же было значительное число агентов в Париже. Борясь с бандами Тьера,[83 - Тьер – французский историк и политический деятель. Политическая деятельность Т., начавшаяся при Полиньяке, реакционном премьер-министре Карла X, неизменно была направлена к защите интересов крупной буржуазии. В июльскую монархию, при Кавеньяке, кровавом усмирителе французского пролетариата в июне 1848 г., поддерживал самые агрессивные меры, направленные против широких масс трудящихся. После крушения 2 империи в 1870 году Тьер через некоторое время становится во главе реакционного республиканского правительства и подавляет жесточайшими мерами восстание парижского пролетариата, создавшего свою революционную власть (Парижскую Коммуну). Из его исторических работ наиболее известна «История Великой Французской Революции».] Коммуна не могла не истреблять версальцев – на фронте и в тылу. Если бы ее господство перешло за пределы Парижа, она в провинции встретила бы – в процессе гражданской войны с армией Национального Собрания – еще больше заклятых врагов в среде мирного населения. Коммуна не могла, сражаясь с роялистами, предоставлять свободу слова агентам роялистов в тылу.
Каутский, несмотря на все нынешние мировые события, совершенно не постигает, что значит война вообще, гражданская война в особенности. Он не понимает, что каждый, или почти каждый, сторонник Тьера в Париже был не просто идейным «противником» коммунаров, но агентом и шпионом Тьера, свирепым врагом, готовым стрелять в спину. Врага нужно обезвреживать, а во время войны это значит уничтожать.