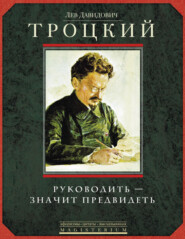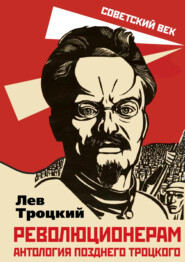По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Проблемы культуры. Культура старого мира
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О новом искусстве и о «новой душе» говорил у нас недавно в Вене берлинский профессор Георг Зиммель[330 - Зиммель, Георг (1858 – 1919) – известный философ и социолог, профессор берлинского университета. Важнейшие произведения: «Die Probleme der Geschichtsphilosophie», «Sociale Differenzierung», «Philosophie des Geldes».], в своей блестящей лекции о Родене. «Новая душа» вся в движении, и это движение – без центрального устремления, без догмата. Разная не только в два ближайших момента, но и в один и тот же момент, она никогда не равна себе. Она всегда разная. И душа эпохи ренессанса была в движении. Но то было движение плавное и размеренное, между двумя предельными моментами покоя. Люди ренессанса колебались меж верой и неверием, меж христианством и «язычеством», меж добродетелью и пороком, меж да и нет. Таких пределов не знает современная душа. Она все совмещает и все растворяет в себе. Каждое ее состояние – только этап на пути из неизвестного в неизвестное. Она соединяет в себе все противоречия, ее да только оттеняет ее нет, она верит и не верит в одно и то же время, она любит цели без путей и пути без целей. И вот это вечно-противоречивое, тревожное, движущееся Роден сумел выразить в самом упорном и косном материале – в камне.
Когда я слушал нервную речь берлинского философа «новой души», в моем сознании невольно всплыла фигура покойного Павла Зингера[194 - П. Зингер – член ЦК германской с.-д., современник Бебеля и Либкнехта-отца. Происходя из богатой буржуазной семьи, в 80-х годах порвал все связи с либерализмом и буржуазией и вскоре стал популярнейшим вождем берлинских рабочих. Талантливый партийный организатор. Член рейхстага с 1884 г., бессменный председатель германских партейтагов и международных социалистических конгрессов. Стойкий «ортодокс» в эпоху ревизионизма. Умер 31 января 1911 г.], такая тяжелая, такая внушительная, такая надежная фигура. О, этот не знал путей без цели и целей без пути! Его цель была для него раз навсегда дана в программе его партии, его путь был ясен и прям. Растворяя себя в партии, он оставался всегда самим собою, – неповторяющейся личностью, несгибаемой индивидуальностью. Обладал ли Зингер «новой душой»? Или Бебель, столь похожий на туго натянутый лук, на напряженную пружину действия – во имя одной и той же цели в течение полустолетия? Или это несовременная душа?
А с другой стороны – американец Карнеги, или берлинец Ашингер, который сидит в центре чудовищной телеграфно-телефонно-биржевой паутины и, дергая то за одну проволоку, то за другую, руководит оборотом миллионов, превращающихся в миллиарды. Этим новым душам тоже, надо полагать, совсем не сроден нравственно-эстетический платонизм с его путями без цели и целями без пути.
Зиммелевская характеристика оставляет за бортом и Бебеля и Ашингера, полярные явления современной культуры, и сводится к групповой самохарактеристике. «Новая душа» Зиммеля есть, на самом деле, душа интеллигенции больших городов, импрессионизм есть ее искусство, эстетически-замаскированное безразличие – ее социальная мораль. Ницше – ее пророк, «Симплициссимус» – ее сатира, Зиммель – ее философский фельетонист, как Зомбарт – фельетонист экономический.
В первый период своего самоопределения новая интеллигенция, тогда шумно порывавшая с традицией во всех областях философии, морали и искусства, искала опоры в социальности. Но уже очень скоро она преодолела в себе социальные тенденции утонченным индивидуализмом. «Я все понимаю, – мог бы о себе сказать носитель „новой души“, – но самое это понимание я ценю в себе гораздо больше, чем те практические выводы, к которым оно меня обязывает. Человеческая история для меня интересна поскольку она разрешается в полушариях моего мозга; та история, которая сегодня делается на улицах, слишком массовидна и потому чужда мне. Не подумайте, что я люблю душевный покой или тоскую по старой законченности форм (временами разве, урывками!); наоборот, вечное движение и тревога духа – моя стихия; но, помимо всего прочего, я очень ценю… покой тела».
Порвав свою недолговременную и поверхностную связь с социальностью, новое искусство утвердилось на путях без целей. Оно очень быстро оставило позади свой период дерзаний, довело свою технику до поразительной в разнообразии приемов высоты и исчерпало себя. Золото на куполе «Сецессион» облупилось, жесть слегка заржавела, и переходя с выставки «мятежников» на выставку рутинеров, вы уже с трудом различаете, что, собственно, разделяет в настоящее время эти два лагеря.
Что прежде всего бросается в глаза на обеих выставках, – это подавляющее господство пейзажа и портрета, т.-е. самых индивидуалистических родов искусства. В портрете, как и в пейзаже, находит свое выражение уединенная душа. И нужно признать, что нынешние художники научились сообщать своим портретам тот последний штрих интимности, какого не хватает работам даже и самых больших старых мастеров. Особенно хороши женские портреты, которые старым художникам удавались меньше мужских. Внешняя активность, связанная с социальной ролью мужчины (воин, священник, судья, бургомистр…), бросала свой отблеск на портрет и придавала лицу значительность. У женщины этого не было, оттого так плоски старые женские портреты. А нынешние художники, интимисты, «подпольные» люди, по слову Достоевского, научились выявлять не внешнюю активность воина или бургомистра, – наоборот, это они разучились делать, – а внутреннюю концентрацию лица, сосредоточение его на собственных душевных переживаниях, на переливах чувств. Лицо почти растворяется в настроении, так что зрителю нужно сделать творческое усилие, чтобы снова собрать лицо воедино, – и это творчество наслаждающегося само становится источником наслаждения. Прекрасна эта «Женщина с маками» Альфреда Ролля из Парижа, – и не тонкими губами и ноздрями своего худощавого лица, не нежным изгибом подбородка и шеи прекрасна, а теми незримыми токами меланхолической жизнерадостности, которые не только одухотворяют лицо, но и заставляют его на ваших глазах менять свое настроение. Еще дальше в том же направлении – и перед вами женщина с цветами Шмолля Эйзенверта – на ступенях каменной лестницы. Сквозь дымку задумчивости еле-еле проступают черты лица. Грусть задумчивости окутывает всю фигуру, и чувствуется даже в изгибе руки, даже на складках платья, даже на ступенях лестницы. И в тех же интимных тонах написаны две другие картины Эйзенверта: тоненькая девушка на веранде, в предрассветных сумерках – вся в ожидании, почти испуганном; окутанная зелеными полутенями женщина, в застывшей тревоге («В ожидании весны» и «В беседке»). Оба: и Ролль и Эйзенверт – в «Сецессион».
То обстоятельство, что новые мастера портрета умеют сквозь кору величавости, воинственности, учености или «благородства» извлечь из души самые сокровенные переживания, делает многие портреты кардиналов, судей, профессоров и министров чрезвычайно похожими на тайные карикатуры. К счастью для высоких заказчиков, сохранилось еще доброе количество портретных маляров, которые умеют лихо подсадить генерала на вороного коня, великолепно раздуть адмиралу плащ, юриста снабдить римской складкой на челе и запечатлеть все бриллианты коммерц-советницы, с профессиональной тщательностью ломбардного оценщика. Нужно заметить, что такие портретисты сосредоточиваются по-прежнему преимущественно в покровительствуемой старой корпорации…
Душе, которая любит пути без цели, несвойственны ни страсть, ни сила. Но зато она часто познает тоску по силе, по первобытной цельности, даже по грубости. Изображений могучего тела и стихийных страстей немало на выставке «Сецессион», – но образцам страсти фатально не хватает страсти, а образам силы недостает силы. Цирковым атлетом кажется Геркулес Рудольфа Иетмара, а могущественный дракон похож на чучело, набитое соломой. Генрих Цита изображает «необузданную силу», в виде молодого центавра. Прием тот же, что у Родена: часть фигуры скрывается в необработанном материале, как бы в недрах матери-природы. Роден преодолевает этим путем косность камня. Его фигуры создаются на ваших глазах. Вы видите глыбу, из которой резец освободил прекрасный образ, удалив лишнее, и, так как фигура не закончена, то, мысленно воспроизводя процесс творчества, вы сами завершаете его. Но в майоликовом центавре венского скульптора, воплощающем необузданную силу, вы за хорошей мускулатурой не видите ни обузданности, ни силы, а только стремление художника дать то и другое. Гром-Роттмайер выставил декоративное полотно «Сила и хитрость». Хитрость представлена нагой женщиной, а силу знаменует рыцарь, весьма печального образа, один из тех, какие стоят у ворот паноптикумов или иллюзионов. В «Доме художников» с «силой» тоже обстоит не лучше. Подавляющая своими размерами фигура кузнеца Виланда, выставленная Воллеком, свидетельствует гораздо более о скотской грубости, чем о силе.
Пейзажи (лес, горы, море, парк, старый замок), портреты и этюды, уголки старых городов, интерьеры, nature morte, – таково подавляющее большинство выставленных произведений, особенно у сецессионистов. Ландшафт изредка оживлен фигурой, но это, обыкновенно, крестьянин, составная часть ландшафта. Интерьеры дают уголок квартиры, диван, увешанную побрякушками елку на ковре, альков нижне-австрийского крестьянина, часть зала рококо, – здесь только что были люди, на всем еще лежит отпечаток их жизни, но их самих уже нет. Если же городская улица, то непременно старая, тесная, полутемная, без людей; потемневшие камни здесь свидетельствуют о прожитых веках. Если это гавань, то в воскресенье с отдыхающими судами, без людей. Много сумрачных церквей, где молящиеся фигуры только дополняют впечатление оторванности от мира, покоя, уединенности. Вот кузница: очаг, мех, наковальня, молоты, – а кузнецов нет. Если изображены люди, то не в своей трудовой обстановке, не в своей социальной функции, а во время отдыха, в праздничный день, за забавой. Деревенская площадь в воскресенье или рынок небольшого города, где люди толкутся без толку, калякают, покупают с прохладцей. Но над всем этим господствует пейзаж, портрет, интерьер да «тихая жизнь» (Stilleben), где любовно и прочувственно выписан огурец на стеклянной тарелке, японская кукла и разрезанный лимон.
Скульптуре нет выхода ни в ландшафте, ни в интерьере: хочет не хочет, она вынуждена иметь дело с человеком. О скульптурных портретах приходится сказать то же, что о портретах красочных: они часто бывают прекрасны своей передачей интимнейшего в душе. Тела не так совершенны и божественно гармоничны, как в античной скульптуре, но несравненно ближе нам, мягче, нежнее, человечнее. То, что завоевано величайшим импрессионистом Роденом: подчинение всего тела, до мизинца на ноге, движению души, вошло в скульптуру и обогатило ее. Но скульптура как бы оглядывается беспомощно, не зная, что ей делать с этим богатством. В «Сецессион» скульптура бедна до последней степени, на юбилейной выставке художников она представлена несколько лучше. Но и там и здесь она поражает скудостью творческого замысла. Бронзовый «Поздравитель» в длинном сюртуке, высоких чулках и туфлях с бантами жеманно кланяется. Сатир льет вино. Игрок в кегли собирается катить шар. Зигфрид любуется выкованным им мечом. Метальщик собирается метнуть камень. «Ночь» с проволочным обручем, украшенным сусальными звездами. Сказывательница сказок. Ребенок с кошкой. Персей. Неизбежное «изобилие», в виде девушки с плодами и фруктами. Конечно, купальщицы. Странствующий музыкант, озирающийся на шипящего гуся. Кулачный боец, бросающий вызов. Ганимед. Диана…
Сколько бы ни твердили эстеты нашего отечественного безвременья, что искусство исчерпывается формой, мы этому никогда не поверим. В скульптуре мы будем ценить не только Родена, который в самом негибком из искусств сумел найти совершенно новые формы, но и великого бельгийца Менье, который, не порывая со старой формой, отвоевал для скульптуры новое содержание.
Античная скульптура воспроизводила человеческое тело в состоянии гармонического покоя. Скульптура ренессанса овладела искусством движения. Но движение служило Микель-Анджело[331 - Микель-Анджело Буонаротти – один из величайших художников итальянского возрождения, скульптор, живописец и поэт, автор фресок в Сикстинской капелле в Ватикане, изображающих сцены из ветхозаветной истории и завершающихся картиной Страшного суда. Все произведения Микель-Анджело носят на себе отпечаток громадной силы и страстности. Из скульптурных произведений Микель-Анджело наиболее известны «Давид», «Моисей» и «Гробница Медичи».] для того, чтобы ярче выразить гармонию тела. Роден[332 - Роден, Огюст (1870 – 1917) – знаменитый французский скульптор. Творчество Родена, по его собственному признанию, колебалось между гармонией античной скульптуры со спокойным совершенством ее форм и суровым величием Микель-Анджело, исполненным страстной борьбы. Наиболее известные произведения Родена: «Первобытный человек», «Мыслитель», «Граждане Калэ», «Мысль».] же сделал само движение темой скульптуры. Если у Анджело тело создает себе свое, т.-е. ему свойственное движение, то у Родена, наоборот, движение находит себе нужное ему тело. Но Роден не расширил сферы захвата скульптуры. Это сделал Менье[333 - Менье, Константин (1881 – 1905) – бельгийский скульптор-реалист, автор простых, монументальных и величавых изображений труда и рабочего быта.], который ввел в скульптуру работника во время работы. До него скульптура знала человека стоящего, сидящего, спящего, пляшущего, играющего, борющегося, отдыхающего, молящегося, любящего, но она не знала человека трудящегося. Когда человек в покое, когда он пляшет, любит или молится, его тело довлеет себе. Роден подчинил тело движению, но движению внутреннему, движению души, обитающей в самом теле. Любовь, мысль, скорбь – вот темы Родена. Во время работы тело подчинено цели, лежащей вне его, оно перестает довлеть себе и становится орудием. Сверх того, искусственные орудия труда расширяют природную периферию тела. Все это исключало физический труд из области скульптуры. Менье сумел показать, что трудовые усилия, направленные на сопротивляющийся материал, не разрушают цельности тела, но дают ей новое выражение; расширяя периферию тела, труд не разрушает ее; превращая тело в орудие, он и орудие делает одухотворенной частью тела. Говоря словами Зиммеля, Менье открыл эстетическую ценность труда. Перед скульптурой развернулась необъятная, еще не затронутая область.
Эстетическое открытие Менье имело под собою глубокие социальные причины. Пока труд был уделом рабов, юридических или нравственных, до тех пор он оставался за порогом искусства. Только социальное пробуждение «субъекта» труда, рабочего класса, превратило труд в проблему для науки, философии, морали, искусства. Менье эстетически разрешил эту проблему. Но тем яснее обнаружило дальнейшее развитие скульптуры, что одного эстетического решения тут недостаточно. Показав, как воспроизводить трудовое усилие в скульптурном материале, Менье не мог, разумеется, натянуть общественные и нравственные связи между миром искусства и миром физического труда. Разобщенность здесь оставалась во всей своей силе. В то время как общественная жизнь развивала из себя небывалые в мировой истории противоречия и группировала по линии их могущественные политические движения, искусство все более замыкалось в хрупкой скорлупе новой души и, отступая перед натиском социальных страстей, покидало совсем великое поле коллективной жизни человеческой, уходило в добровольное изгнание – в ландшафты, в портреты, в nature morte и интерьеры, в идиллию и мифологию… Хотя три четверти современных художников – выученики и жители больших городов, вы не найдете в их живописи или скульптуре большого города, с его чудесами технического могущества, с его коллективными страданиями, страстями и идеалами. На обеих выставках я нашел только два произведения, в которых отразилась новая жизнь городов. Карл Шульда изобразил работу постройки огромного здания на Mariahilferstrasse (в Вене). Олаф Ланге дал цветную гравюру «Призыв». На картине Карла Шульды царит сумрак, смутно вырисовываются из него очертания лесов, а по ним скользят смутные фигуры рабочих без лиц, одни силуэты людей. Так представляются люди труда тому, кто бегло глядит на них со стороны. На гравюре Ланге, под мостом, движется масса, рабочие, работницы, дети, целый поток человеческий. Часть моста разрушена, с моста раздается «призыв». Вся композиция смутна, как если бы сам художник неясно сознавал, куда движется масса и во имя чего раздается призыв…
Это небольшое полотно и эта небольшая гравюра еще более обнажают бестемность и, скажу прямо, нищету современного изобразительного искусства, – нищету, несмотря на все богатство форм и приемов. Что-то большое должно сдвинуться где-то за пределами искусства, в самых недрах нашей общественности, чтобы искусство вернулось из своего изгнания, обогатилось драмой трудящегося и борющегося человека и, в свою очередь, обогатило его труд и борьбу…
Несколько замечаний об отдельных произведениях в «Доме художников». Знаменитый мюнхенский художник Дефреггер выставил большую картину «Поклонение волхвов», на которой и Мария и пастухи выглядят обычными дефреггеровскими крестьянами Тироля. Интересное по замыслу произведение дал венский художник Каспаридес. Поле брани усеяно нагими трупами павших воинов. В вечерней мгле над полем высится призрачный Христос, омраченный и укоряющий. А лицом к нему стоит воин, покорно и дерзновенно… В овощной лавке Иегуда Эпштейн собрал группу чернорабочих, по-видимому, во время обеденного перерыва. Жарко, тела потны, пересохшие губы жадно припадают к сочному арбузу, один из посетителей, видно отъявленный балагур, ведет сочный разговор с молодой бабой-продавщицей, а вокруг лежат такие великолепные арбузы, гранаты и тыквы, и так весело остальным, укрывшись от жары, тянуть в себя арбузный сок и слушать ядреный смех хозяйки. Дрезденец Мах написал испуганного мальчика (Der Aengstliche): худенькое личико, страшно большие глаза, напряженно вытянутая худая шейка и судорожно разведенные пальчики. Чего он испугался? Призрака? Нет, должно быть, сурового отцовского окрика или еще более грозного учительского взора. Отцы и учителя страшнее всяких призраков. Старую повесть о прекрасной Елене рассказывает красками Александр Ротхауг в своей, на три части разделенной, картине. На одном крыле – греки, на другом – троянцы. Тела смуглые, огрубевшие от солнца и ветра, взоры сосредоточенные, мышцы напряженные, есть раненые и убитые. А между обоими крылами выступает, лицом на зрителя, виновница войны Елена. Нагая, прекрасная, спокойная, она неторопливо застегивает золотую застежку своего хитона.
Есть на юбилейной выставке ряд произведений «византийской» живописи, вроде четырех лошадиных морд, которые принадлежат «любимым» лошадям императора Франца-Иосифа. Имеются батально-патриотические и назидательно-исторические картины по специальному заказу воинственно и клерикально-настроенного престолонаследника Франца-Фердинанда для нового дворца. При одном из таких назидательных произведений прямо значится, что оно имеет своей целью «опровержение распространявшихся с протестантской стороны обвинений в мнимой жестокости императорских (т.-е. католиков)». А рядом с тем залом, где помещается этот, на заказ сделанный, продукт католической апологетики, висит небольшой холст Лео Делитца – «В исповедальне». Молодая крестьянка благочестиво рассказывает о своих грехах, а жадно слушающий ее одним ухом патер чрезвычайно напоминает весеннего кота. Я искал глазами разъяснения, что это картина написана в опровержение злоумышленных повествований Декамерона[334 - Декамерон – одно из величайших произведений итальянского Возрождения, принадлежащее Джиованни Боккачио (род. в 1313 г.). Декамерон представляет собой собрание ста новелл – веселых, часто непристойных рассказов, представляющих собой добродушную сатиру на духовенство и особенно монашество и дающих яркую картину современной автору жизни.] о нравственности католических патеров, но такой надписи не оказалось. Очевидно, разъяснения приходится делать лишь в тех случаях, где сама картина недостаточно убедительна. Помогают ли вообще эти печатные истолкования, не знаю, – об этом легче судить заказчикам.
«Киевская Мысль» N 145, 27 мая 1911 г.
«SECESSION» 1913 г
I
Весеннюю выставку венской Secession я посетил только к концу июня, почти накануне закрытия. Кроме меня, по залам бродила еще какая-то семейная экскурсия из Галиции: пан, панны, паненки… Они очень шумели, ели конфекты и вообще вели себя так же точно, как будут себя вести в универсальном магазине Гернгросса. В апреле и мае публики было, конечно, больше, но вряд ли много было и тогда. Пустые залы Secession казались мне очень красноречивыми в течение тех двух-трех часов, которые я провел перед полотнами. Какое место занимает живопись в нынешней жизни? Большое ли? Кого она захватывает сильно, по-настоящему? Кому необходима?
Как всегда, в Secession и на этот раз есть «интересные» работы. Виднейший венский художник Рудольф Иетмар выставил два больших полотна. Более значительное – это «Башни упорства» (или дерзости: «die Turme des Trotzes»). Пустынный ландшафт, а из него естественно вырастают на заднем плане упрямые башни – прямые, без окон, каменные ящики, которые высоко тянутся к небу. На переднем плане лежит обнаженная женщина – в позе, которая одинаково может выражать и отдыхающее сладострастие и утомленное отчаяние: лица почти не видно. Над нею чуть склонился – со вниманием и, по-видимому, с любовью – сильный мужчина. На лице сидящей рядом старухи – упорное и давнее отчаяние, а к старухе прислоняется голый младенец. Лежит ли под этой сценой какая-нибудь легенда, связанная с определенной местностью, или это только драматизация ландшафта, в котором упорная страсть соединена с безнадежностью – не знаю. Картина оставляет после себя впечатление значительности замысла и горечь недоумения.
Два художника: Гром-Роттмайер и Харфингер выставили целую комнату, со стенами и потолком, хотя и без мебели: задача их была создать помещение, предназначенное «служить оправой для судьбоносных событий в семье» – очевидно, в семье необозначенного в каталоге заказчика. Стены восьмигранного помещения украшены символическими изображениями верности, любви, храбрости и трех измерений: дали, глуби и выси; на одной из стен представлены для чего-то четыре кариатиды; все вместе увенчивается потолком из цветного стекла. Перед нами следовательно нечто вроде домашнего храма, но – увы! – в этом храме не хватает ощущения домашних богов. Символы банальны и сбиваются на аллегории, а цветное стекло со стилизованными драконами, львами и китами по окружности в такой же мере могло бы подойти к вестибюлю модерного отеля, как и к домовому храму неизвестного биржевика; пожалуй, в отеле оно было бы более на месте.
Львовский живописец Владислав Яроцкий выставил прекрасных «Гуцул». При почти этнографической простоте замысла: три девушки и парень в ярких нарядах идут мимо зрителя по снегу – эта картина есть истинное художество в своей неотразимой эстетической убедительности и человеческой значительности. Эти гуцулы не списаны с натуры, а написаны изнутри. Такая в них крепкая уверенность в себе, и так властно эта уверенность выражена языком линий и красок, что нам начинает казаться, будто галицийские гуцулы только с этого полотна и начинают вести свою настоящую родословную. И в то же время так физически ясно, что они – другой эпохи, другой культуры, чем мы. Между «гармоническими» телками, не знающими никаких проклятых вопросов, и между теми женщинами, которые отдают жизнь за политическое раскрепощение своего пола, где-то посредине между ними стоят эти круто замешанные гуцулки, – и, несомненно, ближе к телкам, чем к мисс Дэвисон. А этот парень с волосами в скобку, в высокой барашковой шапке – шутник, танцор и работяга – ведь это «Мишанька» (по Успенскому), отличнейшее дитя природы; но наденьте на него императорско-королевскую австро-венгерскую куртку да дайте ему в руки винтовку, и он, не моргнувши глазом, будет расстреливать венгерских рабочих, демонстрирующих за всеобщее избирательное право. От этого фатального в своем роде молодого гуцула, который отпускает своим красавицам комплименты, несомненно, исключительно на украинском языке, мысль незаметно, зацепившись за «Мишаньку», пробирается контрабандным путем за Волочиск.
Особую комнату занимает Отто Фридрих своим «Циклом ритмов», который должен украшать преддверие к музыкальной комнате. Трудно излагать «содержание» картины вообще, а особенно такой, где краски и линии должны служить воплощению не живописных, а музыкальных образов или, вернее, сочетать одни с другими. Законна ли вообще эта задача? На эту тему можно резонерствовать сколько угодно. Но Отто Фридрих показал, что сделанное им законно, ибо эстетически убедительно. Его нарастающие сочетания нагих фигур на пяти полотнах: расплывчатых и трогательных детских тел, гибких отроческих, облагороженно-страстных женских тел и сильных, напряженных мужских, несмотря на всю сложность композиции, говорят языком ясной и чистой гармонии. Если образы домашнего храма (в котором коммерции советник будет препоручать свою дочь полковнику генерального штаба) являются внешними аллегориями, где храбрость представлена мужчиной в латах, который размахивает мечом, а верность изображается мужчиной, который привязан к столбу и пронзен дротиком, то «ритмы» Фридриха не заменяются своими условными знаками, а непосредственно внушаются зрителю внутренней ритмичностью самих изображений, гармонией очертаний и красок.
Архитектурным целям подчиняет свой замысел и талантливый Армин Горовиц. Но самый замысел его несравненно проще: его полотна, представляющие эскизы стенной живописи для какого-либо общественного зала, создают цикл времен года. В живых и радующих красках (tempera) Горовиц набрасывает на одном и том же небольшом по размеру весеннем фоне влюбленных у фонтана; молодого садовника, задумавшегося у клумбы; девочку, гоняющую обруч; старуху, вышедшую на прогулку из экипажа; силуэты солдат на дороге; кроликов за любовью; девушку (дочь хозяина), втыкающую старому садовнику в петлицу цветок; точно так же на общем зимнем фоне он пишет Пьеро в цилиндре и в шубе поверх пестрых лоскутных штанов на коленях в снегу перед загадочной Коломбиной; снежную бабу; озябшую девочку, завернувшуюся с носом в старый мамин платок; старого рабочего, согревающегося трубкой; конькобежцев; силуэт прыжка на лыжах и пр. Несмотря на то, что эти разнородные проявления весны и зимы в действительности происходят в разных, так сказать, географических и социальных измерениях, у Горовица же поставлены все рядом, в духе приемов лубочного символизма (например, известных «возрастов человека»: младенец, юноша, муж, старец); вы не чувствуете никакого насилия над собой: фигуры не просто объединены произволом художника, а внутренно связаны единством (при всем различии) своих весенних или зимних переживаний. Другими словами: перед вами художественное произведение.
II
Перед тем как начать смотреть своими раскосыми глазами по-европейски, китайцы научили художественную Европу глядеть на мир по-китайски, без перспективы, то есть вне пожирающего вещи пространства, в одной плоскости, где все важные для художника очертания тел выступают, как на ладони, или же в условной перспективе, которая не подчиняется геометрическим требованиям, но зато дает художнику возможность извлечь из предметов наиболее для него ценные линии. Франц Вацик выставил в этом «китайском» стиле несколько интересных небольших работ. Каковы бы ни были, однако, преимущества этого стиля, в чистом своем виде он, во всяком случае, слишком наивен для нашего возмужалого глаза. Зато он прекрасно гармонирует со сказочными сюжетами или с библейскими. Таковы, именно, одухотворенные лесные мотивы Вацика, такова же, хотя по-иному написанная, «Мадонна в винограднике» Максимилиана Либенвейна.
Тот же Либенвейн выставил большое полотно, в который уже раз рассказывающее, как похотливый бык с Олимпа похитил Европу. Бык очень монументален, но своими каменными складками шеи выглядит истуканом и не позволяет верить, чтобы такая тупая скотина могла быть способна на рискованные любовные авантюры. Европа в короткой тунике верхом на Зевсе, несмотря на свой юный возраст, относится к необычному приключению без особенного участия, не вызывая никакого к себе участия и со стороны зрителя. С того времени Европа сильно постарела и записала в свой дневник большое количество романов с быками, не всегда олимпийского вида. При несомненно интересных технических деталях (хороши фантастические круги, которые пошли по воде от передних ног Зевса!), картина производит впечатление ненужности, ибо – в сущности – не производит никакого впечатления.
Таких картин на выставке большинство. И поэтому на выставке – скучно… Если оставить в стороне упомянутые выше интересные (но не более!) образцы стенной живописи, с одной стороны, если пройти мимо неизбежного количества просто бездарных полотен, то окажется, что картин в подлинном смысле, то есть таких, которые претендовали бы на самостоятельное существование, почти нет. Выразительны этюды цыганок Видена, удачны отдельные портреты, подкупает своей меланхолической интимностью «Женщина с белыми розами» всегда равного себе штуттгартского художника Карла Шмолля, столь родственного нашему Борису Зайцеву, хороша nature morte (например, живой румянец яблок в сопоставлении с мертвым красным цветом), но все это кажется бесконечными «пробами пера», предварительными испытаниями сил и средств новой живописной техники. А картины нет. И зритель – не специалист, но и не безразличный зевака – неизбежно испытывает в конце концов тоскливое недоумение…
Модернизм в живописи, который долго обвинялся представителями древнего академического благочестия в злоумышленной надуманности и лживой манерности, был на самом деле животворным протестом против старого стиля, пережившего себя и превратившегося в позу. Первым этапом революции был натурализм, который слащавой ретуши школы противопоставил «неподкрашенную» натуру. Логикой своего развития натурализм был приведен на распутье: либо довести свой принцип до конца и раствориться в фотографии, еще того лучше, в синематографии, либо сознательно дать между природой и экраном место воспринимающей и творческой личности, с ее органами чувств, нервной системой и психикой. Натурализм преодолел себя в импрессионизме, который вовсе не отрекается от верности природе, правде жизни, наоборот, именно во имя этой правды в ее вечно меняющихся красках и очертаниях поднял знамя восстания против раз навсегда установившихся форм и потребовал свободы для правды субъективных восприятий. Если старая академическая школа говорила: «Вот по каким правилам (или образцам) должно изображать природу!», если натурализм говорил: «Вот какова природа!», то импрессионизм говорит: «Вот какою я вижу природу!» А это «я» импрессионизма есть личность новая в новой обстановке, с новой нервной системой, с новым глазом, модерный человек, почему и живопись эта есть модернизм, – не модная живопись, а модерная, современная, вытекающая из современного восприятия. Городской глаз усложнился, как и вся жизнь, отделался от тупых и неподвижных зрительных убеждений, ставших предрассудками, привык к красочным комбинациям, которые раньше считал дисгармоническими, привык и полюбил их. Худо это или хорошо? Вопрос бессмысленный. Худо или хорошо, что рядом с солнцем и луной появились газовый рожок и калильная лампа, которые занимают в нашей жизни несравненно больше места, чем луна и немногим меньше, чем солнце? Дети нынешнего города вырастают в новой атмосфере, и для них «стилизованные» в одной плоскости фигуры современных афиш так же натуральны, как для нас в свое время был натурален кобзарь в олеографическом приложении к «Ниве». При неподвижности академической формы, от которой давно отлетела душа, для школьной живописи оставался один путь: сосредоточиться на «содержании», точнее на фабуле, дать полотну значительное или интересное – благочестивое, морализующее, или чувственно-возбуждающее, или романтически-мечтательное, или патриотически-патетическое содержание. Восстание против академизма естественно превращалось в восстание самодовлеющей художественной формы против содержания, как факта безразличного. Такова была чисто эстетическая логика.
Она нашла свою опору в логике социальной. Отсутствие однородной, гармонической, эстетически-воспитанной среды являлось той объективной причиной, которая толкала импрессионистов к отшельничеству, внушала им, в интересах художественного самосохранения, общественный нейтрализм, эстетически-мотивированное безразличие. Живопись отрекалась от «литературы», морали, пропаганды, – она вернулась к точке своего исхода: к глазу.
Та мысль, что содержание искусства – в его форме, мысль, которую так тщательно втолковывали русской публике за последние годы, в своем бесспорном ядре только то и означает, что искусство начинается там, где впечатление от природы, жизненное переживание, нравственная идея или социальный конфликт находят свое художественное воспроизведение. Но это совсем не значит, будто для нас безразлично, что именно нашло себе художественное воплощение. Человек, в том числе и модерный, есть некоторое сложное психологическое единство, и он остается только верен самому себе, когда требует, чтоб и живопись давала ему эстетически-преобразованное истолкование того, что волнует его, как общественно-нравственную личность. Глядя на прекрасные и по-новому написанные луковицы, на попугаев в клетке и на бесчисленные женские «чресла», он приходит к убеждению, что современная живопись только упражняет свою изощренную кисть на безразличных и случайных сюжетах, – готовясь писать свою настоящую картину. Полотна выставки кажутся подготовительными этюдами. Этюды могут быть интересны, как черновые наброски мастерства. Но это интерес специальный, для узкого круга. Люди не живут, не жили и не будут жить миросозерцанием глаза и поэтому живопись не может не чувствовать своей сиротливой изолированности.
Мы пережили год страшной балканской свалки народов, год непрерывной тревоги в Европе, год политической стачки в Бельгии, год героических безрассудств английских милитанток[195 - Суфражисток.], год безостановочного роста той социальной борьбы, вокруг которой вращается вся современная общественность. И все это ни единым штрихом не отразилось на выставке Secession. Не проник на нее ни наш прошлый год, ни запрошлый, ни наше десятилетие, ни вся наша эпоха. Новыми приемами импрессионизм лишь повторяет и перелицовывает старые мотивы. Живопись томится противоречием между модернизмом формы и архаически-безразличным содержанием. Серьезные художники не могут не чувствовать тупика.
В искусстве линии и красок, как и во всех других областях, современная жизнь сделала огромные технические завоевания. Но чтоб развернуть их на радость людям, нужны глубокие изменения в органической ткани современного общества. Только вывод этот лежит уж за пределами живописи.
«Киевская Мысль» NN 171, 172, 23, 24 июня 1913 г.
Л. Троцкий. РОССИЯ И ЕВРОПА
I
Профессор Масарик[335 - Масарик, Томас – чешский ученый и политик, профессор чешского университета в Праге. В 1900 г. стал во главе чешской народной партии. В настоящее время занимает пост президента Чехо-словацкой Республики. Главный труд – «Философские и социологические основы марксизма». Масарик написал также большую книгу о русской общественной мысли.] напечатал 900 страниц большого формата о России – два тома, из которых второй появился лишь недавно. И эти 900 страниц оказываются только введением в его главную тему, которая называется Достоевский. Но Достоевский у Масарика не просто художник и не выдающееся явление русской культуры, – он как бы ее олицетворение и в то же время ее «великий аналитик». Профессор Масарик поставил себе задачей вдвинуть в морально-философские рамки творчества Достоевского всю Россию с основными проблемами ее духа. Самый труд его носит неопределенное название: «Zur russischen Geschichts– und Religionsphilosophie»[196 - Th. I. Masaryk. «Zur russischen Geschichts– und Religionsphilosophie». Soziologische Skizzen. B. I. u II. Verlegt bei Eugen Diederichs in Jena. 1913.]. Уже это заглавие вместе с первой же страницей предисловия настраивает тревожно: не Достоевского с болезненными противоречиями его мысли, с его психологическими глубинами и публицистическою реакционностью собирается автор объяснить из русской истории, с ее религией и философией, а наоборот: проблему русской истории или «русскую проблему» он хочет вскрыть изнутри – «von innen her erfassen» – из Достоевского. Поставив себе, под явным влиянием поверхностного фразеолога Мережковского, эту не то психологическую, не то философскую задачу, Масарик, однако, вспомнил, что русская история не началась с Достоевского. Он дает характеристику киевской и московской Руси, петровских реформ, реакционной эпохи после Французской революции, эпохи реформ после севастопольского разгрома. А так как русская история вовсе не представляла собою телеологического процесса, который должен был в Достоевском найти свое увенчание и в то же время самопознание, то Масарику приходилось на протяжении сотен страниц совершенно забывать о Достоевском. Убедившись, наконец, после больших хлопот, след которых виден на протяжении всей книги, что материю русской истории забывать нельзя – даже и на бумаге – вогнать в морально-философскую схему Достоевского, – если даже совершенно несхематичного Достоевского превратить в схему, – г. Масарик упрямо не отказывается от своего замысла; нет, он с наивной самоотверженностью обвиняет в неудаче себя самого, вернее, свою писательскую неповоротливость. «Собственно говоря, – рассказывает он, – весь труд посвящен Достоевскому, но я был недостаточно ловок стилистически (!), чтобы подобающим образом вплести все в характеристику Достоевского». Это признание почти обезоруживает: Масарик оказался недостаточным «стилистом», – стилист он действительно из рук вон плохой! – чтобы «вплести» в Достоевского Россию, – и вот она лежит распластанная перед нами на протяжении двух томов предисловия. Эта конструктивная неудача есть на самом деле полное крушение ложной концепции, которая от русской истории отвлекает ее «религиозную философию» и персонифицирует ее затем в произвольно выбранной личности. Но идеологическая слепота позволяет г. Масарику не замечать своего убийственного крушения.
Что же представляют собою два первых тома: прагматическую историю? связное изложение событий? Нет, г. Масарик не историк, свой труд он характеризует расплывчатым подзаголовком «социологические очерки». Живая человеческая история для него только безразличная и бесформенная материя, которая в философских системах находит свой смысл и оправдание, подобно тому как бесформенный сургуч служит только для оттиска печати.
Масарик – кантианец. Развитие человечества распадается для него на две неравноценные части: до Канта – приготовительный класс человеческого духа, – и после Канта – эпоха зрелости, по крайней мере для тех, которые уяснили себе общеобязательные теоретико-познавательные «нормы» и «нормы» моральной оценки. Нормы эти, однако, потому и «общеобязательны», что лишены всякого исторического содержания: пытаться исчерпать вечно изменчивое содержание исторического процесса неподвижными нормами – то же, что носить воду решетом или, вернее, обручем. Мы уже знаем, впрочем, что подлинное развитие общественного человека, который в своем действенном приспособлении к внешним условиям строит свое хозяйство, свое государство, свои верования и философские предрассудки – не интересует пражского профессора. Его задача ограничивается тем, чтобы снять с исторического потока его морально-философские сливки. Как он этого достигает? Очень просто: он рассматривает историю идеологий под тем углом зрения, насколько она, на разных этапах своих, приближается к нормативной философии Канта. «Русским не хватает кантианства», – не перестает жаловаться Масарик. Так как Кант – это зрелость духа, то отношение Масарика к русской истории превращается в экзамен ее на аттестат зрелости. Нормативная философия служит Масарику не для объяснения истории, – этого она не может дать, – а для философской и моральной «оценки» отдельных эпох и отдельных представителей в развитии русского общества, – при чем, когда дело доходит до общеобязательной оценки, сквозь обруч нормы неизменно просовывается отнюдь не общеобязательная голова профессора из Праги.
Для того чтобы сделать оттиск печати, нужен все же эмпирический сургуч. Философия религии вырастает на основе человеческой истории, и г. Масарик вынужден заниматься ею. Он остается тут без всякого метода. Слово эклектизм звучит по отношению к нему слишком торжественно: в качестве историка он выступает просто, как некритический компилятор, беспомощный и растерянный до последней степени… Масарик бесспорно много читал, выписывал, сопоставлял, много по-своему обо всем прочитанном размышлял, но плоды его работы не стоят ни в каком отношении к размерам его усилий. Ему в одинаковой мере не хватает исторической интуиции, как и монистической теории. Поэтому многочисленные факты, собранные им, остаются рассыпанной храминой; поэтому же, несмотря на всю добросовестность автора, в книге его множество фактических ошибок, анахронизмов, недоразумений: чтобы не путать фактов, недостаточно «знать» их, – нужно еще понять их в их внутренней связи. Так, русская история дважды уходит от Масарика: первый раз, когда он хочет сразу схватить ее «душу» через Достоевского, второй раз, когда он привлекает ее на суд нормативной философии. Пройдя беспрепятственно сквозь поставленные ей силки, историческая протоплазма разливается далее на сотнях страниц, как бесформенное тесто: ей не хватает организующего начала. Единственный порядок, какой вносит в нее Масарик, состоит в разделении ее на главы и параграфы.
II
«Основная идея» труда изложена в проспекте о книге г. Масарика такими словами: «Русское мышление характеризуется двумя особенностями: оно имеет более практическое, чем теоретическое устремление; проблемы государства, народности, революции образуют философию истории, а так как государство, образующее объект нападения и защиты, теократично, то с философией истории немедленно сочетается философия религии. Во-вторых, противоречие между теократическим государством и бескультурной, лишь церковной, русской народностью и между новыми тенденциями выступает, как противоречие между Россией и Европой. Европа пришла туда, куда Россия только хочет прийти». Это противопоставление повторяется Масариком не раз, – тем не менее оно лишь условно может быть названо «основной идеей» труда, – до такой степени оно бесформенно и в конце концов бессодержательно. Россия – как государство, как общество – теократична. Отсюда Масарик пытается вывести характер ее идейных стремлений, ее литературы, ее революции. Но как только Масарик начинает наполнять понятие теократии содержанием, так у него немедленно же оказывается, что все современное человечество, вышедшее из средневековья, теократично. Государство почти везде связано с церковью, церковь есть организация, опирающаяся на откровение, – «церковь, как организация общества, церковь, как руководящая опора государства и его организации, церковь, как фундамент теократии, была и все еще остается учительницей и воспитательницей народов» (т. II, стр. 504). В основе современного строя лежит не критическая мысль, а «миф». Правда, Европа живет «после Канта». Все XVIII ст. – эпоха рационализма – врезалось клином в мифологическую традицию. Государственная мифология давно утратила на Западе свою средневековую цельность. Но ведь однородный процесс совершается на глазах ныне живущего поколения и в России. В чем же тогда противоречие России и Европы? В том, что Европа гораздо дальше ушла по пути государственного рационализма, то есть парламентарного режима? Другими словами: Россия является отсталой страной? Но для того, чтобы извлечь это обобщение, поистине не нужно было расходовать много теоретической энергии.
Между тем разница между Россией и Европой – и притом именно в вопросах о взаимоотношениях церкви и государства, о роли «мифа» и «критики» – не только хронологическая, не только в темпе развития. Или, если угодно, замедленный темп развития русской общественности порождал такие отношения, которые несли и несут в себе качественное отличие от Европы.
Понятие теократии у Масарика лишено политического и исторического содержания, – он определяет ее психологически, и всякое государство, опирающееся на религиозное сознание, для него теократия. Мы предпочитаем под теократией понимать прямое государственное властвование церковной иерархии. Государственное владычество римского папы было теократией. Католицизм во всех странах противопоставлял государству свои самостоятельные организации, нити которых сходились в Риме. В восточной церкви, византийской, духовенство не имело возможности подняться до теократии: оно прислонилось к государственной власти и покрыло ее своим религиозным авторитетом, взамен тех материальных выгод, какие от нее получало. Россия получила христианство и верхи церковной иерархии из Византии. Духовенство в России никогда не могло подняться не только до высот властвования, но и до серьезных государственных притязаний. Попытка патриарха Никона разыграть роль московского папы закончилась для него низложением и ссылкой. Сопротивление патриарха реформам Петра привело к отмене патриаршества и замещению его коллегиально-бюрократическим синодом.
Основное различие в развитии Востока и Запада Европы определяется несравненно менее благоприятными материальными и культурными условиями Востока. Береговая линия, почва, климат – все сложилось гораздо счастливее на Западе. Там же сохранились ценные материальные наследия и идейные традиции римской культуры, давшие могущественный толчок развитию варваров. На восточной равнине никто не заготовил для наших предков наследства, а природа открыла ее полярным ветрам и набегам азиатских кочевников. Для того чтобы на этом огромном пространстве со скудным и суровым московским центром могло сложиться государство, способное противостоять азиатскому Востоку и европейскому Западу, нужно было крайнее напряжение материальных сил населения. При этих условиях церковь не могла развиться как самостоятельная организация – для этого у страны не хватало питательных соков. Церковь должна была сразу подчиниться государству, стать не только его идейной опорой, но и его прямым административным орудием. Духовенство подчинялось князьям, от которых получало поддержку: приношения паствы были слишком скудны. Церковь должна была поддерживать централизаторские стремления Москвы против притязаний удельного сепаратизма, государственные новшества Петра против тупого консерватизма московской Руси. Князья назначали и изгоняли епископов, князья определяли их права и обязанности. Московский митрополит следовал, как тень, за светской властью, проклинал непокорных Москве князей, громил вечевой порядок Новгорода. Потрясенная расколом церковь должна была еще ниже преклониться пред государством. В петербургский период бюрократизация церкви окончательно оформилась, когда синод, возглавляемый обер-прокурором (из отставных гусар, отставных хирургов или отставных немцев), стал во главе ведомства православного исповедания. Подчиняясь государству, вводя свою иерархию звеном в его иерархию, церковь, разумеется, освящала государство своим авторитетом. Но отсюда еще далеко до теократии. Подчиненная связь церкви с государством не теократизировала государство, но зато несомненно бюрократизировала церковь.
Медленность хозяйственного развития, прерывавшегося в течение долгих периодов хозяйственным регрессом, не только лежала в основе организационной скудости церкви, но и определяла собою скудость всей общественной идеологии, в том числе и «мифа»: для развития идеологии необходим материальный избыток. Церковь шла по линии наименьшего сопротивления, усыновляя первобытно-языческие мифы, в то время как западная церковь обогащала себя наследием античной цивилизации. Языком западной церкви стала латынь, ключ к сокровищницам классической мысли. Введение у нас славянского языка в богослужение, а не греческого, было выражением не большего «демократизма» православной церкви, а культурной бедности страны. Очагами идеологического творчества в средние века, как и теперь, являлись города. Средневековая Россия была слишком бедна, чтобы создать из себя европейский город – с его сложной внутренней кристаллизацией: цехами, гильдиями, муниципалитетом, университетом. Возмущение против католической церкви, принимавшее в народных массах характер сектантских движений, только через посредство городов с их умственной культурой – теологическо-схоластической и гуманитарной (ренессанс!) – могло привести к реформации. Россия не знала реформации, несмотря на то, что пережила раскол. В русском расколе борьба крестьянства, мещанства и купечества направлялась против официальной церкви, во всем покрывавшей Левиафана-государство, с его рекрутчиной и налогами. Но национальная идеологическая атмосфера была еще так скудна, что раскол не подверг критике учение официальной церкви, не создал никакого собственного мифа, а уцепился за промахи и описки в старых книгах и обрядах, подвергнутых со стороны официальной церкви корректуре: церковь раскололась на вопросе о начертании имени Иисуса и на мелких обрядностях, – вместо реформации мы получили старообрядчество.
Примитивность и непластичность официальной церковной идеологии, не давшие места реформации, подготовили будущий радикальный разрыв с церковью новых общественных классов. Религиозность старой Руси не только у крестьянства, но и у господствующих классов имела чисто бытовой характер. Она поддерживалась автоматизмом жизни, которая из поколения в поколение воспроизводила одни и те же формы и скрепляла их цементом мифа. Но как только пробудилась личность и, под давлением западной культуры, материальной и духовной, стала определять свое отношение к окружающему миру, она не нашла в официальной идеологии ничего, что могло бы ей послужить для построения нового миросозерцания. В отличие от стран католической культуры, пробуждавшаяся личность у нас без большой внутренней борьбы отрывалась от мифа и становилась на почву реализма. Разрыв этот отнюдь не заключал в себе той титанической субъективной трагедии, которую, вслед за Мережковским, открывает Масарик. Действительная субъективная трагедия начиналась там, где от разрыва с мифом пробужденная личность приходила в конфликт с отставшим в своем развитии государством.
Русская интеллигенция, от которой новая Россия ведет свою духовную родословную, по столетней традиции своей внецерковна и в подавляющем большинстве своем безрелигиозна, – это относится к дворянской интеллигенции так же, как и к сменившей ее буржуазно-демократической. Нынешний русский либерализм в подавляющем большинстве своем религиозно-индифферентен. Этому нисколько не противоречит тот факт, что либералы, отстаивающие у нас государственную церковь, были бы очень рады, если бы кто-нибудь совершил для них запоздалую реформацию, которая сделала бы церковное учение современнее и гибче и создала бы таким образом для бессильного либерализма обновленно-религиозную связь с массами: церковный вопрос для либерализма – не субъективный вопрос веры, а политическая проблема. Рабочие отрываются от мифа, пожалуй, еще более безболезненно, чем интеллигенция: материалистический коллективизм является для них вообще первой формой субъективного существования – существования для себя. Превращая подлинный общественный и государственный строй России в сверхисторическую теократию, Масарик чудовищно преувеличивает значение мифа и борьбы с ним в духовной жизни новой России. Рабски следуя за Мережковским, Масарик приходит к выводу, что «именно религиозный вопрос вызвал кризис революционизма». Тут на помощь ему приходит конечно Ропшин[197 - Речь идет о романе Ропшина (псевдоним Бориса Савинкова) «Конь бледный». Ред.], блазированный террорист, который при любезном посредничестве Мережковского кокетничает с небом. Масарик в простоте своей воображает, что освободительное движение сорвалось на проблеме бога и загробной жизни, ему невдомек, что дело обстояло как раз наоборот: вызванный глубокими социальными причинами кризис освободительного движения в свою очередь вызвал в сознании некоторых кружков интеллигенции рефлекс мистицизма…
Когда я слушал нервную речь берлинского философа «новой души», в моем сознании невольно всплыла фигура покойного Павла Зингера[194 - П. Зингер – член ЦК германской с.-д., современник Бебеля и Либкнехта-отца. Происходя из богатой буржуазной семьи, в 80-х годах порвал все связи с либерализмом и буржуазией и вскоре стал популярнейшим вождем берлинских рабочих. Талантливый партийный организатор. Член рейхстага с 1884 г., бессменный председатель германских партейтагов и международных социалистических конгрессов. Стойкий «ортодокс» в эпоху ревизионизма. Умер 31 января 1911 г.], такая тяжелая, такая внушительная, такая надежная фигура. О, этот не знал путей без цели и целей без пути! Его цель была для него раз навсегда дана в программе его партии, его путь был ясен и прям. Растворяя себя в партии, он оставался всегда самим собою, – неповторяющейся личностью, несгибаемой индивидуальностью. Обладал ли Зингер «новой душой»? Или Бебель, столь похожий на туго натянутый лук, на напряженную пружину действия – во имя одной и той же цели в течение полустолетия? Или это несовременная душа?
А с другой стороны – американец Карнеги, или берлинец Ашингер, который сидит в центре чудовищной телеграфно-телефонно-биржевой паутины и, дергая то за одну проволоку, то за другую, руководит оборотом миллионов, превращающихся в миллиарды. Этим новым душам тоже, надо полагать, совсем не сроден нравственно-эстетический платонизм с его путями без цели и целями без пути.
Зиммелевская характеристика оставляет за бортом и Бебеля и Ашингера, полярные явления современной культуры, и сводится к групповой самохарактеристике. «Новая душа» Зиммеля есть, на самом деле, душа интеллигенции больших городов, импрессионизм есть ее искусство, эстетически-замаскированное безразличие – ее социальная мораль. Ницше – ее пророк, «Симплициссимус» – ее сатира, Зиммель – ее философский фельетонист, как Зомбарт – фельетонист экономический.
В первый период своего самоопределения новая интеллигенция, тогда шумно порывавшая с традицией во всех областях философии, морали и искусства, искала опоры в социальности. Но уже очень скоро она преодолела в себе социальные тенденции утонченным индивидуализмом. «Я все понимаю, – мог бы о себе сказать носитель „новой души“, – но самое это понимание я ценю в себе гораздо больше, чем те практические выводы, к которым оно меня обязывает. Человеческая история для меня интересна поскольку она разрешается в полушариях моего мозга; та история, которая сегодня делается на улицах, слишком массовидна и потому чужда мне. Не подумайте, что я люблю душевный покой или тоскую по старой законченности форм (временами разве, урывками!); наоборот, вечное движение и тревога духа – моя стихия; но, помимо всего прочего, я очень ценю… покой тела».
Порвав свою недолговременную и поверхностную связь с социальностью, новое искусство утвердилось на путях без целей. Оно очень быстро оставило позади свой период дерзаний, довело свою технику до поразительной в разнообразии приемов высоты и исчерпало себя. Золото на куполе «Сецессион» облупилось, жесть слегка заржавела, и переходя с выставки «мятежников» на выставку рутинеров, вы уже с трудом различаете, что, собственно, разделяет в настоящее время эти два лагеря.
Что прежде всего бросается в глаза на обеих выставках, – это подавляющее господство пейзажа и портрета, т.-е. самых индивидуалистических родов искусства. В портрете, как и в пейзаже, находит свое выражение уединенная душа. И нужно признать, что нынешние художники научились сообщать своим портретам тот последний штрих интимности, какого не хватает работам даже и самых больших старых мастеров. Особенно хороши женские портреты, которые старым художникам удавались меньше мужских. Внешняя активность, связанная с социальной ролью мужчины (воин, священник, судья, бургомистр…), бросала свой отблеск на портрет и придавала лицу значительность. У женщины этого не было, оттого так плоски старые женские портреты. А нынешние художники, интимисты, «подпольные» люди, по слову Достоевского, научились выявлять не внешнюю активность воина или бургомистра, – наоборот, это они разучились делать, – а внутреннюю концентрацию лица, сосредоточение его на собственных душевных переживаниях, на переливах чувств. Лицо почти растворяется в настроении, так что зрителю нужно сделать творческое усилие, чтобы снова собрать лицо воедино, – и это творчество наслаждающегося само становится источником наслаждения. Прекрасна эта «Женщина с маками» Альфреда Ролля из Парижа, – и не тонкими губами и ноздрями своего худощавого лица, не нежным изгибом подбородка и шеи прекрасна, а теми незримыми токами меланхолической жизнерадостности, которые не только одухотворяют лицо, но и заставляют его на ваших глазах менять свое настроение. Еще дальше в том же направлении – и перед вами женщина с цветами Шмолля Эйзенверта – на ступенях каменной лестницы. Сквозь дымку задумчивости еле-еле проступают черты лица. Грусть задумчивости окутывает всю фигуру, и чувствуется даже в изгибе руки, даже на складках платья, даже на ступенях лестницы. И в тех же интимных тонах написаны две другие картины Эйзенверта: тоненькая девушка на веранде, в предрассветных сумерках – вся в ожидании, почти испуганном; окутанная зелеными полутенями женщина, в застывшей тревоге («В ожидании весны» и «В беседке»). Оба: и Ролль и Эйзенверт – в «Сецессион».
То обстоятельство, что новые мастера портрета умеют сквозь кору величавости, воинственности, учености или «благородства» извлечь из души самые сокровенные переживания, делает многие портреты кардиналов, судей, профессоров и министров чрезвычайно похожими на тайные карикатуры. К счастью для высоких заказчиков, сохранилось еще доброе количество портретных маляров, которые умеют лихо подсадить генерала на вороного коня, великолепно раздуть адмиралу плащ, юриста снабдить римской складкой на челе и запечатлеть все бриллианты коммерц-советницы, с профессиональной тщательностью ломбардного оценщика. Нужно заметить, что такие портретисты сосредоточиваются по-прежнему преимущественно в покровительствуемой старой корпорации…
Душе, которая любит пути без цели, несвойственны ни страсть, ни сила. Но зато она часто познает тоску по силе, по первобытной цельности, даже по грубости. Изображений могучего тела и стихийных страстей немало на выставке «Сецессион», – но образцам страсти фатально не хватает страсти, а образам силы недостает силы. Цирковым атлетом кажется Геркулес Рудольфа Иетмара, а могущественный дракон похож на чучело, набитое соломой. Генрих Цита изображает «необузданную силу», в виде молодого центавра. Прием тот же, что у Родена: часть фигуры скрывается в необработанном материале, как бы в недрах матери-природы. Роден преодолевает этим путем косность камня. Его фигуры создаются на ваших глазах. Вы видите глыбу, из которой резец освободил прекрасный образ, удалив лишнее, и, так как фигура не закончена, то, мысленно воспроизводя процесс творчества, вы сами завершаете его. Но в майоликовом центавре венского скульптора, воплощающем необузданную силу, вы за хорошей мускулатурой не видите ни обузданности, ни силы, а только стремление художника дать то и другое. Гром-Роттмайер выставил декоративное полотно «Сила и хитрость». Хитрость представлена нагой женщиной, а силу знаменует рыцарь, весьма печального образа, один из тех, какие стоят у ворот паноптикумов или иллюзионов. В «Доме художников» с «силой» тоже обстоит не лучше. Подавляющая своими размерами фигура кузнеца Виланда, выставленная Воллеком, свидетельствует гораздо более о скотской грубости, чем о силе.
Пейзажи (лес, горы, море, парк, старый замок), портреты и этюды, уголки старых городов, интерьеры, nature morte, – таково подавляющее большинство выставленных произведений, особенно у сецессионистов. Ландшафт изредка оживлен фигурой, но это, обыкновенно, крестьянин, составная часть ландшафта. Интерьеры дают уголок квартиры, диван, увешанную побрякушками елку на ковре, альков нижне-австрийского крестьянина, часть зала рококо, – здесь только что были люди, на всем еще лежит отпечаток их жизни, но их самих уже нет. Если же городская улица, то непременно старая, тесная, полутемная, без людей; потемневшие камни здесь свидетельствуют о прожитых веках. Если это гавань, то в воскресенье с отдыхающими судами, без людей. Много сумрачных церквей, где молящиеся фигуры только дополняют впечатление оторванности от мира, покоя, уединенности. Вот кузница: очаг, мех, наковальня, молоты, – а кузнецов нет. Если изображены люди, то не в своей трудовой обстановке, не в своей социальной функции, а во время отдыха, в праздничный день, за забавой. Деревенская площадь в воскресенье или рынок небольшого города, где люди толкутся без толку, калякают, покупают с прохладцей. Но над всем этим господствует пейзаж, портрет, интерьер да «тихая жизнь» (Stilleben), где любовно и прочувственно выписан огурец на стеклянной тарелке, японская кукла и разрезанный лимон.
Скульптуре нет выхода ни в ландшафте, ни в интерьере: хочет не хочет, она вынуждена иметь дело с человеком. О скульптурных портретах приходится сказать то же, что о портретах красочных: они часто бывают прекрасны своей передачей интимнейшего в душе. Тела не так совершенны и божественно гармоничны, как в античной скульптуре, но несравненно ближе нам, мягче, нежнее, человечнее. То, что завоевано величайшим импрессионистом Роденом: подчинение всего тела, до мизинца на ноге, движению души, вошло в скульптуру и обогатило ее. Но скульптура как бы оглядывается беспомощно, не зная, что ей делать с этим богатством. В «Сецессион» скульптура бедна до последней степени, на юбилейной выставке художников она представлена несколько лучше. Но и там и здесь она поражает скудостью творческого замысла. Бронзовый «Поздравитель» в длинном сюртуке, высоких чулках и туфлях с бантами жеманно кланяется. Сатир льет вино. Игрок в кегли собирается катить шар. Зигфрид любуется выкованным им мечом. Метальщик собирается метнуть камень. «Ночь» с проволочным обручем, украшенным сусальными звездами. Сказывательница сказок. Ребенок с кошкой. Персей. Неизбежное «изобилие», в виде девушки с плодами и фруктами. Конечно, купальщицы. Странствующий музыкант, озирающийся на шипящего гуся. Кулачный боец, бросающий вызов. Ганимед. Диана…
Сколько бы ни твердили эстеты нашего отечественного безвременья, что искусство исчерпывается формой, мы этому никогда не поверим. В скульптуре мы будем ценить не только Родена, который в самом негибком из искусств сумел найти совершенно новые формы, но и великого бельгийца Менье, который, не порывая со старой формой, отвоевал для скульптуры новое содержание.
Античная скульптура воспроизводила человеческое тело в состоянии гармонического покоя. Скульптура ренессанса овладела искусством движения. Но движение служило Микель-Анджело[331 - Микель-Анджело Буонаротти – один из величайших художников итальянского возрождения, скульптор, живописец и поэт, автор фресок в Сикстинской капелле в Ватикане, изображающих сцены из ветхозаветной истории и завершающихся картиной Страшного суда. Все произведения Микель-Анджело носят на себе отпечаток громадной силы и страстности. Из скульптурных произведений Микель-Анджело наиболее известны «Давид», «Моисей» и «Гробница Медичи».] для того, чтобы ярче выразить гармонию тела. Роден[332 - Роден, Огюст (1870 – 1917) – знаменитый французский скульптор. Творчество Родена, по его собственному признанию, колебалось между гармонией античной скульптуры со спокойным совершенством ее форм и суровым величием Микель-Анджело, исполненным страстной борьбы. Наиболее известные произведения Родена: «Первобытный человек», «Мыслитель», «Граждане Калэ», «Мысль».] же сделал само движение темой скульптуры. Если у Анджело тело создает себе свое, т.-е. ему свойственное движение, то у Родена, наоборот, движение находит себе нужное ему тело. Но Роден не расширил сферы захвата скульптуры. Это сделал Менье[333 - Менье, Константин (1881 – 1905) – бельгийский скульптор-реалист, автор простых, монументальных и величавых изображений труда и рабочего быта.], который ввел в скульптуру работника во время работы. До него скульптура знала человека стоящего, сидящего, спящего, пляшущего, играющего, борющегося, отдыхающего, молящегося, любящего, но она не знала человека трудящегося. Когда человек в покое, когда он пляшет, любит или молится, его тело довлеет себе. Роден подчинил тело движению, но движению внутреннему, движению души, обитающей в самом теле. Любовь, мысль, скорбь – вот темы Родена. Во время работы тело подчинено цели, лежащей вне его, оно перестает довлеть себе и становится орудием. Сверх того, искусственные орудия труда расширяют природную периферию тела. Все это исключало физический труд из области скульптуры. Менье сумел показать, что трудовые усилия, направленные на сопротивляющийся материал, не разрушают цельности тела, но дают ей новое выражение; расширяя периферию тела, труд не разрушает ее; превращая тело в орудие, он и орудие делает одухотворенной частью тела. Говоря словами Зиммеля, Менье открыл эстетическую ценность труда. Перед скульптурой развернулась необъятная, еще не затронутая область.
Эстетическое открытие Менье имело под собою глубокие социальные причины. Пока труд был уделом рабов, юридических или нравственных, до тех пор он оставался за порогом искусства. Только социальное пробуждение «субъекта» труда, рабочего класса, превратило труд в проблему для науки, философии, морали, искусства. Менье эстетически разрешил эту проблему. Но тем яснее обнаружило дальнейшее развитие скульптуры, что одного эстетического решения тут недостаточно. Показав, как воспроизводить трудовое усилие в скульптурном материале, Менье не мог, разумеется, натянуть общественные и нравственные связи между миром искусства и миром физического труда. Разобщенность здесь оставалась во всей своей силе. В то время как общественная жизнь развивала из себя небывалые в мировой истории противоречия и группировала по линии их могущественные политические движения, искусство все более замыкалось в хрупкой скорлупе новой души и, отступая перед натиском социальных страстей, покидало совсем великое поле коллективной жизни человеческой, уходило в добровольное изгнание – в ландшафты, в портреты, в nature morte и интерьеры, в идиллию и мифологию… Хотя три четверти современных художников – выученики и жители больших городов, вы не найдете в их живописи или скульптуре большого города, с его чудесами технического могущества, с его коллективными страданиями, страстями и идеалами. На обеих выставках я нашел только два произведения, в которых отразилась новая жизнь городов. Карл Шульда изобразил работу постройки огромного здания на Mariahilferstrasse (в Вене). Олаф Ланге дал цветную гравюру «Призыв». На картине Карла Шульды царит сумрак, смутно вырисовываются из него очертания лесов, а по ним скользят смутные фигуры рабочих без лиц, одни силуэты людей. Так представляются люди труда тому, кто бегло глядит на них со стороны. На гравюре Ланге, под мостом, движется масса, рабочие, работницы, дети, целый поток человеческий. Часть моста разрушена, с моста раздается «призыв». Вся композиция смутна, как если бы сам художник неясно сознавал, куда движется масса и во имя чего раздается призыв…
Это небольшое полотно и эта небольшая гравюра еще более обнажают бестемность и, скажу прямо, нищету современного изобразительного искусства, – нищету, несмотря на все богатство форм и приемов. Что-то большое должно сдвинуться где-то за пределами искусства, в самых недрах нашей общественности, чтобы искусство вернулось из своего изгнания, обогатилось драмой трудящегося и борющегося человека и, в свою очередь, обогатило его труд и борьбу…
Несколько замечаний об отдельных произведениях в «Доме художников». Знаменитый мюнхенский художник Дефреггер выставил большую картину «Поклонение волхвов», на которой и Мария и пастухи выглядят обычными дефреггеровскими крестьянами Тироля. Интересное по замыслу произведение дал венский художник Каспаридес. Поле брани усеяно нагими трупами павших воинов. В вечерней мгле над полем высится призрачный Христос, омраченный и укоряющий. А лицом к нему стоит воин, покорно и дерзновенно… В овощной лавке Иегуда Эпштейн собрал группу чернорабочих, по-видимому, во время обеденного перерыва. Жарко, тела потны, пересохшие губы жадно припадают к сочному арбузу, один из посетителей, видно отъявленный балагур, ведет сочный разговор с молодой бабой-продавщицей, а вокруг лежат такие великолепные арбузы, гранаты и тыквы, и так весело остальным, укрывшись от жары, тянуть в себя арбузный сок и слушать ядреный смех хозяйки. Дрезденец Мах написал испуганного мальчика (Der Aengstliche): худенькое личико, страшно большие глаза, напряженно вытянутая худая шейка и судорожно разведенные пальчики. Чего он испугался? Призрака? Нет, должно быть, сурового отцовского окрика или еще более грозного учительского взора. Отцы и учителя страшнее всяких призраков. Старую повесть о прекрасной Елене рассказывает красками Александр Ротхауг в своей, на три части разделенной, картине. На одном крыле – греки, на другом – троянцы. Тела смуглые, огрубевшие от солнца и ветра, взоры сосредоточенные, мышцы напряженные, есть раненые и убитые. А между обоими крылами выступает, лицом на зрителя, виновница войны Елена. Нагая, прекрасная, спокойная, она неторопливо застегивает золотую застежку своего хитона.
Есть на юбилейной выставке ряд произведений «византийской» живописи, вроде четырех лошадиных морд, которые принадлежат «любимым» лошадям императора Франца-Иосифа. Имеются батально-патриотические и назидательно-исторические картины по специальному заказу воинственно и клерикально-настроенного престолонаследника Франца-Фердинанда для нового дворца. При одном из таких назидательных произведений прямо значится, что оно имеет своей целью «опровержение распространявшихся с протестантской стороны обвинений в мнимой жестокости императорских (т.-е. католиков)». А рядом с тем залом, где помещается этот, на заказ сделанный, продукт католической апологетики, висит небольшой холст Лео Делитца – «В исповедальне». Молодая крестьянка благочестиво рассказывает о своих грехах, а жадно слушающий ее одним ухом патер чрезвычайно напоминает весеннего кота. Я искал глазами разъяснения, что это картина написана в опровержение злоумышленных повествований Декамерона[334 - Декамерон – одно из величайших произведений итальянского Возрождения, принадлежащее Джиованни Боккачио (род. в 1313 г.). Декамерон представляет собой собрание ста новелл – веселых, часто непристойных рассказов, представляющих собой добродушную сатиру на духовенство и особенно монашество и дающих яркую картину современной автору жизни.] о нравственности католических патеров, но такой надписи не оказалось. Очевидно, разъяснения приходится делать лишь в тех случаях, где сама картина недостаточно убедительна. Помогают ли вообще эти печатные истолкования, не знаю, – об этом легче судить заказчикам.
«Киевская Мысль» N 145, 27 мая 1911 г.
«SECESSION» 1913 г
I
Весеннюю выставку венской Secession я посетил только к концу июня, почти накануне закрытия. Кроме меня, по залам бродила еще какая-то семейная экскурсия из Галиции: пан, панны, паненки… Они очень шумели, ели конфекты и вообще вели себя так же точно, как будут себя вести в универсальном магазине Гернгросса. В апреле и мае публики было, конечно, больше, но вряд ли много было и тогда. Пустые залы Secession казались мне очень красноречивыми в течение тех двух-трех часов, которые я провел перед полотнами. Какое место занимает живопись в нынешней жизни? Большое ли? Кого она захватывает сильно, по-настоящему? Кому необходима?
Как всегда, в Secession и на этот раз есть «интересные» работы. Виднейший венский художник Рудольф Иетмар выставил два больших полотна. Более значительное – это «Башни упорства» (или дерзости: «die Turme des Trotzes»). Пустынный ландшафт, а из него естественно вырастают на заднем плане упрямые башни – прямые, без окон, каменные ящики, которые высоко тянутся к небу. На переднем плане лежит обнаженная женщина – в позе, которая одинаково может выражать и отдыхающее сладострастие и утомленное отчаяние: лица почти не видно. Над нею чуть склонился – со вниманием и, по-видимому, с любовью – сильный мужчина. На лице сидящей рядом старухи – упорное и давнее отчаяние, а к старухе прислоняется голый младенец. Лежит ли под этой сценой какая-нибудь легенда, связанная с определенной местностью, или это только драматизация ландшафта, в котором упорная страсть соединена с безнадежностью – не знаю. Картина оставляет после себя впечатление значительности замысла и горечь недоумения.
Два художника: Гром-Роттмайер и Харфингер выставили целую комнату, со стенами и потолком, хотя и без мебели: задача их была создать помещение, предназначенное «служить оправой для судьбоносных событий в семье» – очевидно, в семье необозначенного в каталоге заказчика. Стены восьмигранного помещения украшены символическими изображениями верности, любви, храбрости и трех измерений: дали, глуби и выси; на одной из стен представлены для чего-то четыре кариатиды; все вместе увенчивается потолком из цветного стекла. Перед нами следовательно нечто вроде домашнего храма, но – увы! – в этом храме не хватает ощущения домашних богов. Символы банальны и сбиваются на аллегории, а цветное стекло со стилизованными драконами, львами и китами по окружности в такой же мере могло бы подойти к вестибюлю модерного отеля, как и к домовому храму неизвестного биржевика; пожалуй, в отеле оно было бы более на месте.
Львовский живописец Владислав Яроцкий выставил прекрасных «Гуцул». При почти этнографической простоте замысла: три девушки и парень в ярких нарядах идут мимо зрителя по снегу – эта картина есть истинное художество в своей неотразимой эстетической убедительности и человеческой значительности. Эти гуцулы не списаны с натуры, а написаны изнутри. Такая в них крепкая уверенность в себе, и так властно эта уверенность выражена языком линий и красок, что нам начинает казаться, будто галицийские гуцулы только с этого полотна и начинают вести свою настоящую родословную. И в то же время так физически ясно, что они – другой эпохи, другой культуры, чем мы. Между «гармоническими» телками, не знающими никаких проклятых вопросов, и между теми женщинами, которые отдают жизнь за политическое раскрепощение своего пола, где-то посредине между ними стоят эти круто замешанные гуцулки, – и, несомненно, ближе к телкам, чем к мисс Дэвисон. А этот парень с волосами в скобку, в высокой барашковой шапке – шутник, танцор и работяга – ведь это «Мишанька» (по Успенскому), отличнейшее дитя природы; но наденьте на него императорско-королевскую австро-венгерскую куртку да дайте ему в руки винтовку, и он, не моргнувши глазом, будет расстреливать венгерских рабочих, демонстрирующих за всеобщее избирательное право. От этого фатального в своем роде молодого гуцула, который отпускает своим красавицам комплименты, несомненно, исключительно на украинском языке, мысль незаметно, зацепившись за «Мишаньку», пробирается контрабандным путем за Волочиск.
Особую комнату занимает Отто Фридрих своим «Циклом ритмов», который должен украшать преддверие к музыкальной комнате. Трудно излагать «содержание» картины вообще, а особенно такой, где краски и линии должны служить воплощению не живописных, а музыкальных образов или, вернее, сочетать одни с другими. Законна ли вообще эта задача? На эту тему можно резонерствовать сколько угодно. Но Отто Фридрих показал, что сделанное им законно, ибо эстетически убедительно. Его нарастающие сочетания нагих фигур на пяти полотнах: расплывчатых и трогательных детских тел, гибких отроческих, облагороженно-страстных женских тел и сильных, напряженных мужских, несмотря на всю сложность композиции, говорят языком ясной и чистой гармонии. Если образы домашнего храма (в котором коммерции советник будет препоручать свою дочь полковнику генерального штаба) являются внешними аллегориями, где храбрость представлена мужчиной в латах, который размахивает мечом, а верность изображается мужчиной, который привязан к столбу и пронзен дротиком, то «ритмы» Фридриха не заменяются своими условными знаками, а непосредственно внушаются зрителю внутренней ритмичностью самих изображений, гармонией очертаний и красок.
Архитектурным целям подчиняет свой замысел и талантливый Армин Горовиц. Но самый замысел его несравненно проще: его полотна, представляющие эскизы стенной живописи для какого-либо общественного зала, создают цикл времен года. В живых и радующих красках (tempera) Горовиц набрасывает на одном и том же небольшом по размеру весеннем фоне влюбленных у фонтана; молодого садовника, задумавшегося у клумбы; девочку, гоняющую обруч; старуху, вышедшую на прогулку из экипажа; силуэты солдат на дороге; кроликов за любовью; девушку (дочь хозяина), втыкающую старому садовнику в петлицу цветок; точно так же на общем зимнем фоне он пишет Пьеро в цилиндре и в шубе поверх пестрых лоскутных штанов на коленях в снегу перед загадочной Коломбиной; снежную бабу; озябшую девочку, завернувшуюся с носом в старый мамин платок; старого рабочего, согревающегося трубкой; конькобежцев; силуэт прыжка на лыжах и пр. Несмотря на то, что эти разнородные проявления весны и зимы в действительности происходят в разных, так сказать, географических и социальных измерениях, у Горовица же поставлены все рядом, в духе приемов лубочного символизма (например, известных «возрастов человека»: младенец, юноша, муж, старец); вы не чувствуете никакого насилия над собой: фигуры не просто объединены произволом художника, а внутренно связаны единством (при всем различии) своих весенних или зимних переживаний. Другими словами: перед вами художественное произведение.
II
Перед тем как начать смотреть своими раскосыми глазами по-европейски, китайцы научили художественную Европу глядеть на мир по-китайски, без перспективы, то есть вне пожирающего вещи пространства, в одной плоскости, где все важные для художника очертания тел выступают, как на ладони, или же в условной перспективе, которая не подчиняется геометрическим требованиям, но зато дает художнику возможность извлечь из предметов наиболее для него ценные линии. Франц Вацик выставил в этом «китайском» стиле несколько интересных небольших работ. Каковы бы ни были, однако, преимущества этого стиля, в чистом своем виде он, во всяком случае, слишком наивен для нашего возмужалого глаза. Зато он прекрасно гармонирует со сказочными сюжетами или с библейскими. Таковы, именно, одухотворенные лесные мотивы Вацика, такова же, хотя по-иному написанная, «Мадонна в винограднике» Максимилиана Либенвейна.
Тот же Либенвейн выставил большое полотно, в который уже раз рассказывающее, как похотливый бык с Олимпа похитил Европу. Бык очень монументален, но своими каменными складками шеи выглядит истуканом и не позволяет верить, чтобы такая тупая скотина могла быть способна на рискованные любовные авантюры. Европа в короткой тунике верхом на Зевсе, несмотря на свой юный возраст, относится к необычному приключению без особенного участия, не вызывая никакого к себе участия и со стороны зрителя. С того времени Европа сильно постарела и записала в свой дневник большое количество романов с быками, не всегда олимпийского вида. При несомненно интересных технических деталях (хороши фантастические круги, которые пошли по воде от передних ног Зевса!), картина производит впечатление ненужности, ибо – в сущности – не производит никакого впечатления.
Таких картин на выставке большинство. И поэтому на выставке – скучно… Если оставить в стороне упомянутые выше интересные (но не более!) образцы стенной живописи, с одной стороны, если пройти мимо неизбежного количества просто бездарных полотен, то окажется, что картин в подлинном смысле, то есть таких, которые претендовали бы на самостоятельное существование, почти нет. Выразительны этюды цыганок Видена, удачны отдельные портреты, подкупает своей меланхолической интимностью «Женщина с белыми розами» всегда равного себе штуттгартского художника Карла Шмолля, столь родственного нашему Борису Зайцеву, хороша nature morte (например, живой румянец яблок в сопоставлении с мертвым красным цветом), но все это кажется бесконечными «пробами пера», предварительными испытаниями сил и средств новой живописной техники. А картины нет. И зритель – не специалист, но и не безразличный зевака – неизбежно испытывает в конце концов тоскливое недоумение…
Модернизм в живописи, который долго обвинялся представителями древнего академического благочестия в злоумышленной надуманности и лживой манерности, был на самом деле животворным протестом против старого стиля, пережившего себя и превратившегося в позу. Первым этапом революции был натурализм, который слащавой ретуши школы противопоставил «неподкрашенную» натуру. Логикой своего развития натурализм был приведен на распутье: либо довести свой принцип до конца и раствориться в фотографии, еще того лучше, в синематографии, либо сознательно дать между природой и экраном место воспринимающей и творческой личности, с ее органами чувств, нервной системой и психикой. Натурализм преодолел себя в импрессионизме, который вовсе не отрекается от верности природе, правде жизни, наоборот, именно во имя этой правды в ее вечно меняющихся красках и очертаниях поднял знамя восстания против раз навсегда установившихся форм и потребовал свободы для правды субъективных восприятий. Если старая академическая школа говорила: «Вот по каким правилам (или образцам) должно изображать природу!», если натурализм говорил: «Вот какова природа!», то импрессионизм говорит: «Вот какою я вижу природу!» А это «я» импрессионизма есть личность новая в новой обстановке, с новой нервной системой, с новым глазом, модерный человек, почему и живопись эта есть модернизм, – не модная живопись, а модерная, современная, вытекающая из современного восприятия. Городской глаз усложнился, как и вся жизнь, отделался от тупых и неподвижных зрительных убеждений, ставших предрассудками, привык к красочным комбинациям, которые раньше считал дисгармоническими, привык и полюбил их. Худо это или хорошо? Вопрос бессмысленный. Худо или хорошо, что рядом с солнцем и луной появились газовый рожок и калильная лампа, которые занимают в нашей жизни несравненно больше места, чем луна и немногим меньше, чем солнце? Дети нынешнего города вырастают в новой атмосфере, и для них «стилизованные» в одной плоскости фигуры современных афиш так же натуральны, как для нас в свое время был натурален кобзарь в олеографическом приложении к «Ниве». При неподвижности академической формы, от которой давно отлетела душа, для школьной живописи оставался один путь: сосредоточиться на «содержании», точнее на фабуле, дать полотну значительное или интересное – благочестивое, морализующее, или чувственно-возбуждающее, или романтически-мечтательное, или патриотически-патетическое содержание. Восстание против академизма естественно превращалось в восстание самодовлеющей художественной формы против содержания, как факта безразличного. Такова была чисто эстетическая логика.
Она нашла свою опору в логике социальной. Отсутствие однородной, гармонической, эстетически-воспитанной среды являлось той объективной причиной, которая толкала импрессионистов к отшельничеству, внушала им, в интересах художественного самосохранения, общественный нейтрализм, эстетически-мотивированное безразличие. Живопись отрекалась от «литературы», морали, пропаганды, – она вернулась к точке своего исхода: к глазу.
Та мысль, что содержание искусства – в его форме, мысль, которую так тщательно втолковывали русской публике за последние годы, в своем бесспорном ядре только то и означает, что искусство начинается там, где впечатление от природы, жизненное переживание, нравственная идея или социальный конфликт находят свое художественное воспроизведение. Но это совсем не значит, будто для нас безразлично, что именно нашло себе художественное воплощение. Человек, в том числе и модерный, есть некоторое сложное психологическое единство, и он остается только верен самому себе, когда требует, чтоб и живопись давала ему эстетически-преобразованное истолкование того, что волнует его, как общественно-нравственную личность. Глядя на прекрасные и по-новому написанные луковицы, на попугаев в клетке и на бесчисленные женские «чресла», он приходит к убеждению, что современная живопись только упражняет свою изощренную кисть на безразличных и случайных сюжетах, – готовясь писать свою настоящую картину. Полотна выставки кажутся подготовительными этюдами. Этюды могут быть интересны, как черновые наброски мастерства. Но это интерес специальный, для узкого круга. Люди не живут, не жили и не будут жить миросозерцанием глаза и поэтому живопись не может не чувствовать своей сиротливой изолированности.
Мы пережили год страшной балканской свалки народов, год непрерывной тревоги в Европе, год политической стачки в Бельгии, год героических безрассудств английских милитанток[195 - Суфражисток.], год безостановочного роста той социальной борьбы, вокруг которой вращается вся современная общественность. И все это ни единым штрихом не отразилось на выставке Secession. Не проник на нее ни наш прошлый год, ни запрошлый, ни наше десятилетие, ни вся наша эпоха. Новыми приемами импрессионизм лишь повторяет и перелицовывает старые мотивы. Живопись томится противоречием между модернизмом формы и архаически-безразличным содержанием. Серьезные художники не могут не чувствовать тупика.
В искусстве линии и красок, как и во всех других областях, современная жизнь сделала огромные технические завоевания. Но чтоб развернуть их на радость людям, нужны глубокие изменения в органической ткани современного общества. Только вывод этот лежит уж за пределами живописи.
«Киевская Мысль» NN 171, 172, 23, 24 июня 1913 г.
Л. Троцкий. РОССИЯ И ЕВРОПА
I
Профессор Масарик[335 - Масарик, Томас – чешский ученый и политик, профессор чешского университета в Праге. В 1900 г. стал во главе чешской народной партии. В настоящее время занимает пост президента Чехо-словацкой Республики. Главный труд – «Философские и социологические основы марксизма». Масарик написал также большую книгу о русской общественной мысли.] напечатал 900 страниц большого формата о России – два тома, из которых второй появился лишь недавно. И эти 900 страниц оказываются только введением в его главную тему, которая называется Достоевский. Но Достоевский у Масарика не просто художник и не выдающееся явление русской культуры, – он как бы ее олицетворение и в то же время ее «великий аналитик». Профессор Масарик поставил себе задачей вдвинуть в морально-философские рамки творчества Достоевского всю Россию с основными проблемами ее духа. Самый труд его носит неопределенное название: «Zur russischen Geschichts– und Religionsphilosophie»[196 - Th. I. Masaryk. «Zur russischen Geschichts– und Religionsphilosophie». Soziologische Skizzen. B. I. u II. Verlegt bei Eugen Diederichs in Jena. 1913.]. Уже это заглавие вместе с первой же страницей предисловия настраивает тревожно: не Достоевского с болезненными противоречиями его мысли, с его психологическими глубинами и публицистическою реакционностью собирается автор объяснить из русской истории, с ее религией и философией, а наоборот: проблему русской истории или «русскую проблему» он хочет вскрыть изнутри – «von innen her erfassen» – из Достоевского. Поставив себе, под явным влиянием поверхностного фразеолога Мережковского, эту не то психологическую, не то философскую задачу, Масарик, однако, вспомнил, что русская история не началась с Достоевского. Он дает характеристику киевской и московской Руси, петровских реформ, реакционной эпохи после Французской революции, эпохи реформ после севастопольского разгрома. А так как русская история вовсе не представляла собою телеологического процесса, который должен был в Достоевском найти свое увенчание и в то же время самопознание, то Масарику приходилось на протяжении сотен страниц совершенно забывать о Достоевском. Убедившись, наконец, после больших хлопот, след которых виден на протяжении всей книги, что материю русской истории забывать нельзя – даже и на бумаге – вогнать в морально-философскую схему Достоевского, – если даже совершенно несхематичного Достоевского превратить в схему, – г. Масарик упрямо не отказывается от своего замысла; нет, он с наивной самоотверженностью обвиняет в неудаче себя самого, вернее, свою писательскую неповоротливость. «Собственно говоря, – рассказывает он, – весь труд посвящен Достоевскому, но я был недостаточно ловок стилистически (!), чтобы подобающим образом вплести все в характеристику Достоевского». Это признание почти обезоруживает: Масарик оказался недостаточным «стилистом», – стилист он действительно из рук вон плохой! – чтобы «вплести» в Достоевского Россию, – и вот она лежит распластанная перед нами на протяжении двух томов предисловия. Эта конструктивная неудача есть на самом деле полное крушение ложной концепции, которая от русской истории отвлекает ее «религиозную философию» и персонифицирует ее затем в произвольно выбранной личности. Но идеологическая слепота позволяет г. Масарику не замечать своего убийственного крушения.
Что же представляют собою два первых тома: прагматическую историю? связное изложение событий? Нет, г. Масарик не историк, свой труд он характеризует расплывчатым подзаголовком «социологические очерки». Живая человеческая история для него только безразличная и бесформенная материя, которая в философских системах находит свой смысл и оправдание, подобно тому как бесформенный сургуч служит только для оттиска печати.
Масарик – кантианец. Развитие человечества распадается для него на две неравноценные части: до Канта – приготовительный класс человеческого духа, – и после Канта – эпоха зрелости, по крайней мере для тех, которые уяснили себе общеобязательные теоретико-познавательные «нормы» и «нормы» моральной оценки. Нормы эти, однако, потому и «общеобязательны», что лишены всякого исторического содержания: пытаться исчерпать вечно изменчивое содержание исторического процесса неподвижными нормами – то же, что носить воду решетом или, вернее, обручем. Мы уже знаем, впрочем, что подлинное развитие общественного человека, который в своем действенном приспособлении к внешним условиям строит свое хозяйство, свое государство, свои верования и философские предрассудки – не интересует пражского профессора. Его задача ограничивается тем, чтобы снять с исторического потока его морально-философские сливки. Как он этого достигает? Очень просто: он рассматривает историю идеологий под тем углом зрения, насколько она, на разных этапах своих, приближается к нормативной философии Канта. «Русским не хватает кантианства», – не перестает жаловаться Масарик. Так как Кант – это зрелость духа, то отношение Масарика к русской истории превращается в экзамен ее на аттестат зрелости. Нормативная философия служит Масарику не для объяснения истории, – этого она не может дать, – а для философской и моральной «оценки» отдельных эпох и отдельных представителей в развитии русского общества, – при чем, когда дело доходит до общеобязательной оценки, сквозь обруч нормы неизменно просовывается отнюдь не общеобязательная голова профессора из Праги.
Для того чтобы сделать оттиск печати, нужен все же эмпирический сургуч. Философия религии вырастает на основе человеческой истории, и г. Масарик вынужден заниматься ею. Он остается тут без всякого метода. Слово эклектизм звучит по отношению к нему слишком торжественно: в качестве историка он выступает просто, как некритический компилятор, беспомощный и растерянный до последней степени… Масарик бесспорно много читал, выписывал, сопоставлял, много по-своему обо всем прочитанном размышлял, но плоды его работы не стоят ни в каком отношении к размерам его усилий. Ему в одинаковой мере не хватает исторической интуиции, как и монистической теории. Поэтому многочисленные факты, собранные им, остаются рассыпанной храминой; поэтому же, несмотря на всю добросовестность автора, в книге его множество фактических ошибок, анахронизмов, недоразумений: чтобы не путать фактов, недостаточно «знать» их, – нужно еще понять их в их внутренней связи. Так, русская история дважды уходит от Масарика: первый раз, когда он хочет сразу схватить ее «душу» через Достоевского, второй раз, когда он привлекает ее на суд нормативной философии. Пройдя беспрепятственно сквозь поставленные ей силки, историческая протоплазма разливается далее на сотнях страниц, как бесформенное тесто: ей не хватает организующего начала. Единственный порядок, какой вносит в нее Масарик, состоит в разделении ее на главы и параграфы.
II
«Основная идея» труда изложена в проспекте о книге г. Масарика такими словами: «Русское мышление характеризуется двумя особенностями: оно имеет более практическое, чем теоретическое устремление; проблемы государства, народности, революции образуют философию истории, а так как государство, образующее объект нападения и защиты, теократично, то с философией истории немедленно сочетается философия религии. Во-вторых, противоречие между теократическим государством и бескультурной, лишь церковной, русской народностью и между новыми тенденциями выступает, как противоречие между Россией и Европой. Европа пришла туда, куда Россия только хочет прийти». Это противопоставление повторяется Масариком не раз, – тем не менее оно лишь условно может быть названо «основной идеей» труда, – до такой степени оно бесформенно и в конце концов бессодержательно. Россия – как государство, как общество – теократична. Отсюда Масарик пытается вывести характер ее идейных стремлений, ее литературы, ее революции. Но как только Масарик начинает наполнять понятие теократии содержанием, так у него немедленно же оказывается, что все современное человечество, вышедшее из средневековья, теократично. Государство почти везде связано с церковью, церковь есть организация, опирающаяся на откровение, – «церковь, как организация общества, церковь, как руководящая опора государства и его организации, церковь, как фундамент теократии, была и все еще остается учительницей и воспитательницей народов» (т. II, стр. 504). В основе современного строя лежит не критическая мысль, а «миф». Правда, Европа живет «после Канта». Все XVIII ст. – эпоха рационализма – врезалось клином в мифологическую традицию. Государственная мифология давно утратила на Западе свою средневековую цельность. Но ведь однородный процесс совершается на глазах ныне живущего поколения и в России. В чем же тогда противоречие России и Европы? В том, что Европа гораздо дальше ушла по пути государственного рационализма, то есть парламентарного режима? Другими словами: Россия является отсталой страной? Но для того, чтобы извлечь это обобщение, поистине не нужно было расходовать много теоретической энергии.
Между тем разница между Россией и Европой – и притом именно в вопросах о взаимоотношениях церкви и государства, о роли «мифа» и «критики» – не только хронологическая, не только в темпе развития. Или, если угодно, замедленный темп развития русской общественности порождал такие отношения, которые несли и несут в себе качественное отличие от Европы.
Понятие теократии у Масарика лишено политического и исторического содержания, – он определяет ее психологически, и всякое государство, опирающееся на религиозное сознание, для него теократия. Мы предпочитаем под теократией понимать прямое государственное властвование церковной иерархии. Государственное владычество римского папы было теократией. Католицизм во всех странах противопоставлял государству свои самостоятельные организации, нити которых сходились в Риме. В восточной церкви, византийской, духовенство не имело возможности подняться до теократии: оно прислонилось к государственной власти и покрыло ее своим религиозным авторитетом, взамен тех материальных выгод, какие от нее получало. Россия получила христианство и верхи церковной иерархии из Византии. Духовенство в России никогда не могло подняться не только до высот властвования, но и до серьезных государственных притязаний. Попытка патриарха Никона разыграть роль московского папы закончилась для него низложением и ссылкой. Сопротивление патриарха реформам Петра привело к отмене патриаршества и замещению его коллегиально-бюрократическим синодом.
Основное различие в развитии Востока и Запада Европы определяется несравненно менее благоприятными материальными и культурными условиями Востока. Береговая линия, почва, климат – все сложилось гораздо счастливее на Западе. Там же сохранились ценные материальные наследия и идейные традиции римской культуры, давшие могущественный толчок развитию варваров. На восточной равнине никто не заготовил для наших предков наследства, а природа открыла ее полярным ветрам и набегам азиатских кочевников. Для того чтобы на этом огромном пространстве со скудным и суровым московским центром могло сложиться государство, способное противостоять азиатскому Востоку и европейскому Западу, нужно было крайнее напряжение материальных сил населения. При этих условиях церковь не могла развиться как самостоятельная организация – для этого у страны не хватало питательных соков. Церковь должна была сразу подчиниться государству, стать не только его идейной опорой, но и его прямым административным орудием. Духовенство подчинялось князьям, от которых получало поддержку: приношения паствы были слишком скудны. Церковь должна была поддерживать централизаторские стремления Москвы против притязаний удельного сепаратизма, государственные новшества Петра против тупого консерватизма московской Руси. Князья назначали и изгоняли епископов, князья определяли их права и обязанности. Московский митрополит следовал, как тень, за светской властью, проклинал непокорных Москве князей, громил вечевой порядок Новгорода. Потрясенная расколом церковь должна была еще ниже преклониться пред государством. В петербургский период бюрократизация церкви окончательно оформилась, когда синод, возглавляемый обер-прокурором (из отставных гусар, отставных хирургов или отставных немцев), стал во главе ведомства православного исповедания. Подчиняясь государству, вводя свою иерархию звеном в его иерархию, церковь, разумеется, освящала государство своим авторитетом. Но отсюда еще далеко до теократии. Подчиненная связь церкви с государством не теократизировала государство, но зато несомненно бюрократизировала церковь.
Медленность хозяйственного развития, прерывавшегося в течение долгих периодов хозяйственным регрессом, не только лежала в основе организационной скудости церкви, но и определяла собою скудость всей общественной идеологии, в том числе и «мифа»: для развития идеологии необходим материальный избыток. Церковь шла по линии наименьшего сопротивления, усыновляя первобытно-языческие мифы, в то время как западная церковь обогащала себя наследием античной цивилизации. Языком западной церкви стала латынь, ключ к сокровищницам классической мысли. Введение у нас славянского языка в богослужение, а не греческого, было выражением не большего «демократизма» православной церкви, а культурной бедности страны. Очагами идеологического творчества в средние века, как и теперь, являлись города. Средневековая Россия была слишком бедна, чтобы создать из себя европейский город – с его сложной внутренней кристаллизацией: цехами, гильдиями, муниципалитетом, университетом. Возмущение против католической церкви, принимавшее в народных массах характер сектантских движений, только через посредство городов с их умственной культурой – теологическо-схоластической и гуманитарной (ренессанс!) – могло привести к реформации. Россия не знала реформации, несмотря на то, что пережила раскол. В русском расколе борьба крестьянства, мещанства и купечества направлялась против официальной церкви, во всем покрывавшей Левиафана-государство, с его рекрутчиной и налогами. Но национальная идеологическая атмосфера была еще так скудна, что раскол не подверг критике учение официальной церкви, не создал никакого собственного мифа, а уцепился за промахи и описки в старых книгах и обрядах, подвергнутых со стороны официальной церкви корректуре: церковь раскололась на вопросе о начертании имени Иисуса и на мелких обрядностях, – вместо реформации мы получили старообрядчество.
Примитивность и непластичность официальной церковной идеологии, не давшие места реформации, подготовили будущий радикальный разрыв с церковью новых общественных классов. Религиозность старой Руси не только у крестьянства, но и у господствующих классов имела чисто бытовой характер. Она поддерживалась автоматизмом жизни, которая из поколения в поколение воспроизводила одни и те же формы и скрепляла их цементом мифа. Но как только пробудилась личность и, под давлением западной культуры, материальной и духовной, стала определять свое отношение к окружающему миру, она не нашла в официальной идеологии ничего, что могло бы ей послужить для построения нового миросозерцания. В отличие от стран католической культуры, пробуждавшаяся личность у нас без большой внутренней борьбы отрывалась от мифа и становилась на почву реализма. Разрыв этот отнюдь не заключал в себе той титанической субъективной трагедии, которую, вслед за Мережковским, открывает Масарик. Действительная субъективная трагедия начиналась там, где от разрыва с мифом пробужденная личность приходила в конфликт с отставшим в своем развитии государством.
Русская интеллигенция, от которой новая Россия ведет свою духовную родословную, по столетней традиции своей внецерковна и в подавляющем большинстве своем безрелигиозна, – это относится к дворянской интеллигенции так же, как и к сменившей ее буржуазно-демократической. Нынешний русский либерализм в подавляющем большинстве своем религиозно-индифферентен. Этому нисколько не противоречит тот факт, что либералы, отстаивающие у нас государственную церковь, были бы очень рады, если бы кто-нибудь совершил для них запоздалую реформацию, которая сделала бы церковное учение современнее и гибче и создала бы таким образом для бессильного либерализма обновленно-религиозную связь с массами: церковный вопрос для либерализма – не субъективный вопрос веры, а политическая проблема. Рабочие отрываются от мифа, пожалуй, еще более безболезненно, чем интеллигенция: материалистический коллективизм является для них вообще первой формой субъективного существования – существования для себя. Превращая подлинный общественный и государственный строй России в сверхисторическую теократию, Масарик чудовищно преувеличивает значение мифа и борьбы с ним в духовной жизни новой России. Рабски следуя за Мережковским, Масарик приходит к выводу, что «именно религиозный вопрос вызвал кризис революционизма». Тут на помощь ему приходит конечно Ропшин[197 - Речь идет о романе Ропшина (псевдоним Бориса Савинкова) «Конь бледный». Ред.], блазированный террорист, который при любезном посредничестве Мережковского кокетничает с небом. Масарик в простоте своей воображает, что освободительное движение сорвалось на проблеме бога и загробной жизни, ему невдомек, что дело обстояло как раз наоборот: вызванный глубокими социальными причинами кризис освободительного движения в свою очередь вызвал в сознании некоторых кружков интеллигенции рефлекс мистицизма…