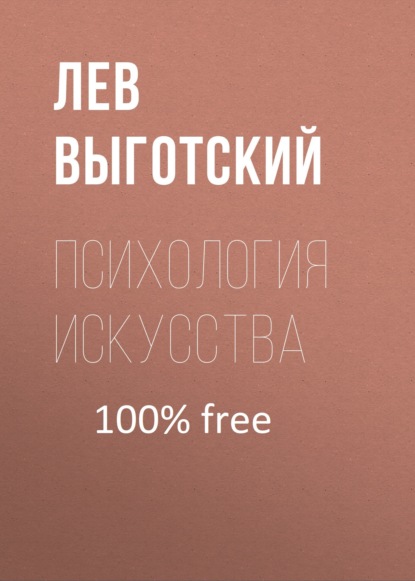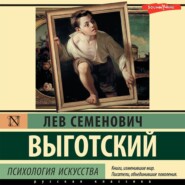По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Психология искусства (вариант)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я всенародно расскажу про все
Случившееся. Расскажу о страшных,
Кровавых и безжалостных делах…
И все впечатление от трагедии можно передать этим певуче-диким и безумно-исступленным выкриком Гамлета:
«О, wonderful!»
Гамлет, уже умудренный смертью, который уже ей отдан (он уже убит), говорит:
«… I am dead, Horatio. —
…А вы, немые зрители финала,
Ах, если б только время я имел, —
Но смерть – конвойный строгий и не любит,
Чтоб медлили. – я столько бы сказал…
Да пусть и так, все кончено, Гораций.
Ты жив…» (V, 2).
И он завещает Горацио жить: «… поведай про жизнь мою» и затем, завещая передать Фортинбрасу его повесть, говорит:
Скажи ему, как все произошло
И что к чему. Дальнейшее – молчанье.
Гамлет, уже умерший («I am dead»), уже стоящий в могиле, знает все, он мог бы рассказать. И вот он ясно намечает эти два смысла трагедии. Один – это внешняя повесть трагедии, которую с большими или меньшими подробностями должен рассказать Горацио. Он ничего не знает, он созерцатель только трагедии, он расскажет ее фабулу, ее события. Мы знаем, что он расскажет:
Я всенародно расскажу про все
Случившееся. Расскажу о страшных,
Кровавых и безжалостных делах,
Превратностях, убийствах по ошибке,
Наказанном двуличье и к концу —
О кознях пред развязкой, погубивших
Виновников. Вот что имею я
Поведать вам (V, 2).
То есть опять-таки фабулу трагедии. Итак, трагедия как бы не заканчивается вовсе; в конце она как бы замыкает круг, возвращаясь снова ко всему тому, что сейчас только прошло перед зрителем на сцене, – только на этот раз уже в рассказе, но только в пересказе ее фабулы. Крут замкнут: непонятная трагедия, заполненная нагромождением непонятных и неестественных событий («кровавых…» и т. д.), так и останется непонятной в рассказе Горацио. А ее второй смысл, который мог бы рассказать уже умерший Гамлет, ибо в его душе совершилось все это, этот второй смысл не рассказан, не дан в пьесе, унесен в могилу.
Что это за второй смысл пьесы, который унесен Гамлетом в могилу и который открылся и ему только тогда, когда он стоял уже в могиле? Что рассказал бы Гамлет, если бы он имел время, нам – бледным и дрожащим зрителям трагической катастрофы?
Трагедия в его посмертных словах явно распадается на две части: одна – это сама трагедия, ее «слова, слова, слова», ее рассказ (Горацио), и другая – это остальное, что есть молчание. Что же это остальное, что есть молчание? В этом все.
Этот «второй смысл» трагедии, это «остальное», то, что в пьесе не рассказано, то, что в пьесе не дано, а возникает из нее, – что бы это ни было, то есть в чем бы ни заключалась его сущность, – ясно, что оно одно может объяснить «неестественный» рассказ Горацио, первую часть трагедии, ее «слова, слова, слова». Это «остальное» – есть тот корень (пусть иррациональный, – смысл этого «остального», конечно, нельзя раскрыть в идеях, в логических понятиях, он – потусторонен, он – замогильный; остальное – молчание), который разрешает уравнение. Понять трагедию Шекспира (рассказ Горацио) можно, только подставив под ее «слова, слова, слова» – «остальное – молчание».
Этот «второй смысл», как я уже сказал, не дан в пьесе, не рассказан в ней, трагедия замыкается в круг, переходя в рассказ Горацио.
Между тем он необходим для разрешения проблемы трагедии, для понимания ее рассказа. И вот, этот второй смысл все же дан в пьесе, он заключается в самой трагедии, как корень уравнения дан в уравнении, существует в нем, даже если он иррационален, то есть невыразим и не существует сам по себе, вне уравнения, но в нем он дан. Этот «смысл» дан в самой трагедии или, вернее, существует в ней, в ходе ее действия, в ее тоне, в ее словах. Вот почему она движется все время в молчании. Это – подпочвенная основа ее, трагический источник.
Вот почему в дальнейших строках, навеянных глубоким ощущением этого «второго смысла» трагедии, не будет прямо о нем сказано ни слова. Надо только нащупать его в самой пьесе, нащупать ее подпочвенные, трагические источники[31 - Вячеслав Иванов в прекрасной статье «Шекспир и Сервантес» («Утро России», 1916, 22 апр.) сравнивает время – эпоху Шекспира и Сервантеса – с предутренним часом: «И оба увидели, каждый по-своему, как по ложбинам и горным ущельям скользили и стлались, убегая от солнца, последние тени спугнутой ночи в саванах мглы… Иррациональное в жизни запечатлели они в утро рационализма, тайну подметили при дневном озарении, разрывающем все покровы таинственного, и от этого глубокого отзвучия сокровенных сущностей стали их создания глубоки, как сама жизнь». Удивительные слова о трагедии вообще неизбежно приводят Вячеслава Иванова к признанию «слов загадочного принца» («порвалась дней связующая ночь») «центральными в его творчестве» (Л. Шестов) и даже «многознаменательным и даже всеобъемлющим свидетельством Шекспира о себе самом». «Шекспир в круге своего творчества решает мировую проблему и провозглашает свой религиозный постулат чисто трагически – выходом в безумие и признанием иррационального или сверхразумного начала в видимом мироустройстве, никогда не объяснимом до конца, ибо «много в нем такого», как напоминает Гамлет другу Горацио, «о чем не снилось нашим мудрецам». В изображениях безумствования Шекспир сообщает нам свои глубочайшие постижения…Итак, трагическое мироощущение Шекспира проистекало из узрения при ярком свете наступившего дня двусмысленной слиянности постижимого с непостижимым. Из озаренного солнцем пространства он уследил пути ночных теней, затаившихся в тесницы и пещеры и оттуда высылающих к людям своих призрачных выходцев в решительные и последние мгновения, когда колеблется разум и рассыпается на мертвые звенья живая «связь времен» (V). К сожалению, Вячеслав Иванов, так удивительно восчувствовавший трагическое («По звездам»), указавший, что «математическим пределом этого тяготения ко внутреннему полюсу трагического является молчание» («Предчувствия и предвестия»), изведавший упоение бездн и horror fati(Ужас судьбы (латин.).), так прозорливо отнесший Шекспира к «художникам-облачителям» – «служителям высших откровений», вместе с Достоевским, в противоположность «художникам-разоблачителям» (Сервантес, Л. Толстой), не остановился на тайне Гамлета. В 1905 году, тоже к юбилею, написана им статья «Кризис индивидуализма»: традиция Тургенева – Гамлет – эгоист-индивидуалист, Дон-Кихот – соборность, альтруизм, – усложнение тургеневских терминов и понятий. «Трагедия Гамлета изображает непроизвольный протест своеначальной личности против внешнего, хотя и добровольно признанного императива… Гамлет – жертва своего же «я». В этой плоскости толкование Гамлета глубоко интересно, но остается все же не попятным, как сквозь разорванный покров времен В. Иванов не увидал в Гамлете трагической тайны. И слово о ней должен был изречь именно он. Он не почувствовал, что вся трагедия «незримыми цепями прикована к нездешним берегам» (В. Л. Соловьев). «Гамлет – герой новых пересказов старинной Орестеи, которого вина лежит в его рождении и борьба которого – борьба с тенями подземного царства». «Если бы Гамлет был просто слабый человек, трагедия Шекспира не казалась бы столь неисчерпаемо глубокой. Вернее, она вовсе не существовала бы как трагедия. Но Гамлет – некий характер, и загадка первопричины, разрушающей его действие, обращает пашу мысль к изначальным и общим законам духа» («Борозды и межи»). Различие, которое В. Иванов делает (в применении к героям и трагедиям Достоевского) вслед за Кантом и Шопенгауэром между эмпирическим и умопостигаемым характером, трех планов трагедии, – необходимо провести и в Гамлете. В Гамлете явно ощущается, говоря словами Библии, рука Божия. Впечатление – не очистительный катарсис греческой трагедии (религиозно-медицинский), а страх божий, чувство, возбуждаемое трагедией «истинно есть Бог в месте сем». В Гамлете и Офелии сквозь безволие эмпирическое просвечивает метафизическое какое-то безволие. И вся трагедия развивается под непрестанно тяготеющим и возносящимся над ней знаком безволия – креста.Философ современного символизма Метерлинк хорошо формулирует это, говоря о новой драме: «Тут дело идет уже не об определенной борьбе одного существа с другим или о вечном столкновении страсти и долга». Трагизм повседневности, трагическое начало самого существования человека – это, конечно, удивительно выявлено Метерлинком. Учение его о «неслышимом диалоге», о внутренней, второй драме, о двойном смысле явлений в символической драме, о двух мирах, в которых происходит ее действие, и вытекающем отсюда стремлении символического театра выявить эту двойную сущность явлений – все это глубокое и замечательное учение. Но его литературные оценки старого театра не глубоки и поверхностны: трагизм в «Отелло», на которого нападает Метерлинк, выявлен гораздо глубже, чем во многих новых драмах. В частности, «Гамлет» остается в этом отношении именно не только непревзойденным, но и не достигнутым до сих пор идеалом новой драмы. Например, драмы Метерлинка, несмотря на всю свою замечательность, все же страдают некоторой нарочитой и намеренной тенденциозностью «наоборот», подчас превращающей его символизм в мертвую схему и аллегорию. («Слепые», «Там внутри» и проч. находятся под властью определенной мысли.) «Гамлет» – идеал «новой» символической трагедии. Делались попытки и эту трагедию трактовать как борьбу внешнюю (Вердер) или внутреннюю (Гете и другие). К этим двум группам можно отнести почти все критические разборы «Гамлета». К сожалению, за недостатком места приходится выбросить разбор даже основных взглядов критиков (тема особая) и ограничиться указанием, что настоящий этюд по самой мысли своей отвергает все эти разборы и толкования. Поэтому естественным завершением его мысли была бы подробная и обстоятельная по возможности «критика критики», от которой приходится сейчас отказаться. Недостаточность определения трагедии чувствовал глубоко Шопенгауэр: разбирая вопрос о трагической вине, он сводит его к основному – трагическому: «Истинный смысл трагедии заключается в более глубоком воззрении, что то, что искупает герой, – не его партикулярные грехи, а первородный грех, то есть вина самого существования: Величайшая вина человека В том, что родился он, – как это прямо высказывает Кальдерон». (Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Спб., 1898, с. 263). Если трагическое – основной факт бытия, то трагедия – высший род творчества, наиболее обобщающий, символический.]. И только.
Можно, конечно, и прямо говорить об этом «втором смысле», но это уже тема особая, требующая особого подхода, тема, так сказать, мистическая, потусторонняя (как и сам «смысл»), метафизическая, допускающая к себе только отношение религиозное и выходящая за пределы художественного восприятия трагедии.
Здесь же нас занимает этот «второй смысл» лишь в ограниченных пределах трагедии, в замкнутом кругу ее «слов». Надо его нащупать только в ее словах.
Поэтому от синтетического впечатления всей трагедии, которому посвящена эта глава, которое дает только туман настроения для восприятия, только канву, на которой трагедия вышьет свои причудливые узоры, надо перейти к аналитическому рассмотрению ее составных частей – отдельных действующих лиц, их положений, речей, характеров, судеб. Здесь представляется нам наиболее целесообразным параллельное рассмотрение действующих лиц и фабулы пьесы. Ведь это две части, на которые распадается внешняя трагедия, из чего она составлена; две части, взаимоотношение которых определяет весь смысл трагедии (например, так называемые трагедии рока или трагедии характера определяются только этим). Фабула драмы, то есть ход в ней событий, с одной стороны, и действующие лица, то есть участники этих событий – с другой, определяют всю трагедию или, вернее, их взаимоотношение определяет ее. Так, например, если ход событий в драме подчинен характерам действующих лиц, зависит от них, вытекает из них, – если направляющие его законы, определяющие и вызывающие его причины лежат в действующих лицах, в их характерах, – мы имеем трагедию характера; если ход событий подчиняет себе судьбу действующих лиц, вопреки их характерам, имея в себе что-то роковое и фатальное, внешненепреодолимое, что влечет людей к преступлениям, гибели и другим событиям, не вытекающим из их характера, – мы имеем трагедию рока. Таким образом, взаимоотношение этих двух частей трагедии – фабулы, то есть хода событий, и действующих лиц – определяет весь ее смысл.
Так и в «Гамлете». Надо рассмотреть это взаимоотношение: только здесь можно прощупать смысл трагедии. Такова техническая часть работы.
Надо рассмотреть ход событий в пьесе и действующих лиц ее. Надо расставить марионетки, чтобы получилась сцена, надо прочитать на этих страницах, в этих строках трагедию, ее «слова, слова, слова».
Но кроме этих двух частей – фабулы пьесы (хода событий, интриг, катастрофы) и действующих лиц, во взаимоотношении которых мы рассчитываем прощупать смысл трагедии, – есть еще одна часть – весьма важная, как бы окутывающая это «взаимоотношение» и придающая ему особенный вид. Мы говорим о невидимой атмосфере трагедии, о лирике ее, о «музыке трагедии», об ее тоне, настроении. Как в произведениях живописи, в картине самое важное – не краски, не изображение предметов, не полотно, а тот воздух, те перспективы, те бесконечные дали, которые возникают из сочетания красок и предметов, которые заполняют картину, но которых в картине, собственно, нет, которые возникают из картины, – точно так же в трагедии, где от автора не говорится ни слова, где ни словом не объясняется ход событий, где только передаются, воспроизводятся положения, события, лица, разговоры – не рассказом о них, но точным их воспроизведением, – самое важное это не обрисовка характеров действующих лиц, их поступков, судеб, а тот неуловимый воздух, заполняющий промежутки между лицами, те бесконечные дали трагического, которые возникают из сочетания лиц и положений. Так, в трагедии самое важное не то, что происходит на сцене, что видимо и что дано, а то, что висит, что смутно отгадывается, что чувствуется и ощущается за событиями и речами, та невидимая атмосфера трагического, которая непрестанно давит на пьесу и заставляет возникать в ней образы и лица. Этой атмосферы, обволакивающей «второй смысл» пьесы, в самой пьесе нет, она возникает из данного, ее надо вызвать. Каждое лицо имеет уже иной смысл, если против него или рядом с ним стоит другое, отбрасывающее на него свой свет. Надо поставить каждое из них на надлежащее место; надо различить лиц подлинно трагических, носителей трагического начала в своей душе – трагических героев, от трагических жертв, гибнущих под давлением этого трагического начала. Только расставив их, можно вызвать к жизни то пространство, которое находится между ними, заполненное невидимыми нитями трагического. В этой «музыке трагедии» звучит нотами мистического органа вся гамма темных чувств – печали, скорби, тоски, страдания и пр. – всего, сколько есть слов для обозначения их; свет, заливающий трагедию, – темный.
Итак, вот с чем будем иметь дело в дальнейшем: с рассмотрением взаимоотношения хода событий и действующих лиц, и с этой «музыкой трагедии»[32 - «…с этой «музыкой трагедии»…». – Очень близкие по духу мысли о «музыке трагедии» содержатся в статье Б. Л. Пастернака: «…не поддается цитированию общая музыка «Гамлета». Ее нельзя привести в виде отдельного ритмического примера. Несмотря на эту бестелесность, ее присутствие так зловеще и вещественно врастает в общую ткань драмы, что в соответствии сюжету ее невольно хочется назвать духовидческой и скандинавской. Эта музыка состоит в мерном чередовании торжественности и тревожности. Она сгущает до предельной плотности атмосферу вещи и позволяет выступить тем полнее ее главному настроению» (Пастернак Б. Л. Заметки к переводам шекспировских трагедий. М., 1956, с. 797).], которую приходится слышать за словами трагедии. Это и должно помочь нам постигнуть настроение пьесы, понять все те отдельные трагедии, из которых, мы сказали, состоит наша пьеса, и которые обращены все одной стороной к внутреннему фокусу, центру трагедии, найти этот центр, эту точку, вокруг которой она вся вращается, понять и осветить «характеры» действующих лиц, уяснить механизм хода событий в пьесе и, наконец, – что составляет все это вместе взятое, – нащупать общий «смысл» трагедии, понять ее, подставив под ее «слова» – «остальное».
Это все. Только это. Тайну надо принять как тайну. Разгадывание – дело профанов. Невидимое – вовсе не синоним непостижимого: оно имеет другие ходы к душе. Невыразимое, иррациональное воспринимается неразгаданными доселе чувствилищами души. Таинственное постигается не отгадыванием, а ощущением, переживанием таинственного. «Остальное» постигается в молчании трагедии.
II
В этом тайна искусства трагического поэта. Трагедия начинается катастрофой, случившейся даже до ее начала, до поднятия занавеса. Эта катастрофа, из которой развивается все действие, могла бы составить сюжет особой трагедии, героем которой был бы убийца Гамлета (отца), его брат Клавдий, теперешний король Дании. Но эта первая трагедия не дана в пяти актах нашей трагедии, она произошла за сценой, о ней мы узнаем из рассказа, – таким образом, механизм действия нашей трагедии перенесен за сцену, за кулисы.
Здесь надо в двух словах остановиться на удивительном художественном приеме Шекспира в этой трагедии, на технике развития ее действия – на приеме, кладущем свой отпечаток, придающем свой стиль всей пьесе в ее целом. Весь «Гамлет» насыщен рассказами о событиях, все существенное в пьесе происходит за сценой, кроме катастрофы (что особенно подчеркивает резкий контраст стиля бездейственной трагедии и невероятной по насыщенности действия последней сцены и придает этой последней особый смысл): так, об убийстве отца Гамлета и браке его матери с убийцей, о поединке Гамлета с Фортинбрасом (отцов), о появлении тени отца Гамлета (дважды), о всей политической интриге, о предприятиях Фортинбраса, о любви Гамлета к Офелии, о его прощании с ней, о борьбе с пиратами, об убийстве Гильденстерна и Розенкранца, о гибели Офелии, даже о настроениях Гамлета – мы узнаем из рассказов о них: все это происходит вне сцены. Она вся точно построена на словах, на рассказах, что, видимо, противоречит самой природе трагедии как драматического представления, где все должно быть непосредственно воспроизведено[73 - «…все должно быть непосредственно воспроизведено…». – То обстоятельство, что Гамлет выражает себя не в действии, а в монологах и сентенциях, отмечается и многими современными литературоведами. См., например: Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961, с. 267–268, 286–287.] перед зрителем, дано на сцене. Отсюда совершенно особый бездейственный характер, самый стиль ее: все это как бы задергивает дымкой все действия, как бы набрасывает на действие дымку рассказа, прикрывает его рассказом, дает трагедию в отзвуке, отсвете, отголосках. Точно вся она развивается за какой-то полупрозрачной завесой («слов, слов, слов»…), точно вся она протекает в странном и матовом, глубоком матовом полусвете; точно это трагедия отражений, трагедия теней, где за каждой тенью (тенью события, «действия» в драматическом смысле) ощущается и угадывается таинственный ее отбрасывающий предмет, точно за каждым рассказом нащупывается таинственное (скрытое, ибо завешенное «словами») событие и действие. Все совершается вне сцены. Здесь как бы только отзвуки и отблески, отражения, отсветы происходящего, только рассказ, только тень, – отсюда та страшная и пугающая нездешност событий и действий, когда они появляются, возникают непосредственно, не в рассказе (катастрофа). Прибавьте к этому монологи актеров, сцену на сцене, песни Офелии, могильщиков, отрывки и стихи Гамлета и, главное, взгляд в речи (последней) Гамлета к Горацио на всю трагедию как на рассказ, роль самого Горацио (он все время – вне действия, он рассказчик трагедии, ее созерцатель, точно мы видим рассказ Горацио о ней, а не самую трагедию, – Шекспир – Горацио, – точно вся она снятся ему), – и выдержанный до последней черточки «теневой» характер, «теневой» стиль этой трагедии станет ясен. Это одно – по чисто художественным достоинствам – делает «Гамлета» высочайшей драмой. Она вся – из отзвуков, из отблесков, из отражений, рассказов, монологов, воспоминаний, видений, теней, представлений, игры, песен – без действия, – и этому соответствует ее внешность – проза и стихи, – белые и рифмованные, и отрывки, и сцены, и песни, и монологи – чередуются, точно обломки, осколки чего-то. Поистине, это трагедия проекций.
Этот «теневой стиль» трагедии – уже сам, уже один – содержит ее смысл, дает художественное ощущение ее сокровенного смысла, бросает свой свет на все происходящее. Им придется пользоваться и нам при рассмотрении каждого отдельного события для указания на его «теневой» характер и при рассмотрении трагедии в целом – как рассказа Горацио. От внешнего к внутреннему, от формы («слов») к смыслу («молчанию»), от технического драматического приема к вскрытию сущности всей трагедии – в ее частях и в ее целом – таков путь не только художника-автора, но главным образом критика-читателя для вскрытия сущности пьесы. В этом стиле уже целая «философская система» трагедии – ее «феноменов» и «ноуменов»; целая «теория» мировосприятия (мира трагедии, конечно, только), миропонимания; вся лирика настроений созерцателя пьесы; вся «музыка трагедии). Этот стиль заставляет по-иному звучать отдельные сцены («феномены» и «ноумены») и всю трагедию. Об этом – особо о каждой сцене и трагедии в целом.
Но этот же стиль создает особые условия работы над трагедией (работы восприятия): все это все же облечено в драматическую форму, в рассказы различных действующих лиц. Критик-читатель не может отождествлять себя ни с одним из них (тем более что «рассказывают» почти все), и потому ему приходится говорить не столько о самых событиях, сколько об их отзвуках, отражениях в душе действующих лиц, в их рассказах. Ему приходится работать только над этим материалом. Ему приходится подчиниться стилю трагедии и заразиться им. Но при этом, – говоря не о самых событиях, а об отражении их в зеркалах-душах действующих лиц, – критик должен хорошо изучить каждое зеркало, так как все они разные, – дающие и отражения разные – выпуклые, вогнутые, прямые, с различным душевным фокусным расстоянием, они дают отражения то увеличенные, то уменьшенные, то искривленные. Для того чтобы изучить в отражениях самые события, надо найти фокус, центр каждого зеркала – каждого действующего лица.
Все это понадобилось здесь в главе, посвященной рассмотрению роли тени отца Гамлета в трагедии, именно потому, что сделать это можно не иначе, как пользуясь указанным выше приемом. С самого начала приходится подчиниться стилю трагедии и определить роль тени в пьесе тоже по отражениям ее в душах действующих лиц трагедии. Это – единственные аргументы в руках критика. Еще одно предварительное замечание: если путь возникновения этого развиваемого здесь воззрения на «Гамлета» был – от ощущения трагедии в целом к оценке ее частностей, ролей отдельных действующих лиц, – то ход работы – передачи этого воззрения в мыслях – должен быть обратный – от оценки ролей отдельных действующих лиц к восприятию трагедии в ее целом. Или, вернее, то и другое можно связать вместе: ведь паша тема, как указано выше, есть параллельное рассмотрение фабулы пьесы, хода событий (трагедии в целом) и действующих лиц (трагедии в частностях). Теперь о роли тени отца Гамлета в трагедии.
Тень является в пьесе четыре раза (в одной сцене дважды – акт I, сц. 1), – в четырех сценах – акт I, сц. 1, 4, 5; акт III, сц. 4; два раза об ее появлении рассказывают – сперва Бернардо и Марцелло – Горацио, потом все трое Гамлету (акт I, сц, 1, 2), но это далеко не единственный и не весь материал об этом. Это материал, так сказать, явный, доказательный, но есть и другой, не менее значительный. О нем – ниже.
Прежде всего Тень нигде в пьесе, в продолжение пяти актов, не действует, ничего не совершает. Придя из иного мира, она остается все время, видимо, чужда всему происходящему здесь. Она только показывается страже, видится солдатами, Горацио, Гамлетом (королева Тени не видит) и слышится только Гамлетом. Что же эта Тень? Какова ее роль в пьесе, где ее место? Сценический ли это только аксессуар, драматический эффект, наглядно показывающий, сценически воспроизводящий разоблачение убийства? Или действующее лицо, по условиям драмы умершее (убитое по фабуле пьесы) и все же необходимое в ходе драмы как ее живой участник, побуждающий героя к мести, вызывая в нем чувства любви, жалости, преклонения, долга? В первом случае роль Тени чисто служебная, техническая, так сказать, символистическая; она может быть заменена любым живым лицом, обладающим равной авторитетностью в призыве к мести; во втором «сверхъестественное» объясняется просто техническими требованиями драмы для избежания видимой нелепости (лицо убито – это необходимая часть драмы, но оно необходимо же должно быть в ней), – но по смыслу явление призрака можно приравнять к разговору с живым отцом, если бы он был возможен, то есть в сущности явление призрака, сверхъестественное в драме, есть только как бы условность, но, в сущности, по смыслу драмы не вносит элемента сверхъестественного в нее. Все это глубоко неверно[33 - (В указателе даны имена, встречающиеся в тексте и комментариях Л. С. Выготского;) «Вершиной поэзии… должно считать трагедию», – говорит Шекспир. «Не обращайте внимания на сверхъестественное посредство умершего человека, – говорит Белинский, – не в том дело; дело в том, что Гамлет узнает о смерти своего отца, а каким образом – вам нет нужды. Но вместо этого разверните драму и подивитесь, как поэт сумел воспользоваться даже этим «чудесным», чтобы развернуть во всем блеске свой драматический гений: его тень жива, в ее словах отзывается боль страждущего тела и страждущего духа… О, какая высокая драма: какая истина в положении» («Гамлет, драма Шекспира»). Здесь с удивительной ясностью подчеркнуто это иное, почти всеобщее отношение к Тени: на нее «не обращают внимания», это только драматический способ дать узнать Гамлету истину, и это сверхъестественное принимается как необходимое зло, ему подыскиваются оправдания («вместо этого…»). Но без этого «чудесного» нет и всей трагедии. Приговор В. Белинского становится вполне понятным в связи с его общим взглядом на «фантастическое» в искусстве, изложенным им по другому поводу (по поводу «Двойника» Достоевского): «Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе и находиться в заведовании врачей, а не поэтов». Этим сказано все: отсюда уже вытекает его отношение к «фантастическому» в искусстве прошлых веков, в частности к Тени в «Гамлете». Взгляд Белинского примыкает ко второму, указанному в тексте: Тень, по его словам, жива, то есть, по смыслу, не вносит неестественного в пьесу, необходимая логически форма и проч. А между тем она жива иной жизнью, реальна иной реальностью, В общем, никто почти из критиков не останавливается на этом и не отмечает приписываемой нами роли Тени. Ю. Айхенвальд мимоходом говорит: «…и восстанавливается, таким образом, прерванная было связь между двумя мирами», но и он далеко не кладет этого в основу толкования. Шестов (Шестов Л. Шекспир и его критик Брандес. – Полн, собр. соч. в 6-ти т., т. 1. Спб., 1911) говорит, истолковывая Брандеса: «Брандес останавливается, между прочим, на очень важном вопросе о роли тени отца Гамлета в трагедии. Между главным действующим лицом и обстоятельствами явилось противоречие. Принц, по своей проницательности равный самому Шекспиру, видит Духа и говорит с ним». Но это противоречие чисто внешнего характера. Роль духа имеет символистическое, так сказать, значение. В рамках одной драмы Шекспиру невозможно было выяснить, каким образом Гамлет, никогда быстро не принимающий решений, затягивающий и медлительный, узнал об убийстве отца и вместе с тем почувствовал необходимость наказать Клавдия. Мотивировать появление такого решения у Гамлета – значило написать еще одну пьесу. Все это изменено явлением Духа, который возвещает Гамлету тайну смерти отца и приказывает отомстить преступнику. Шекспир ничего лучшего и придумать не мог. Благодаря вмешательству Тени отступление для Гамлета становится невозможным: убить Клавдия нужно во что бы то ни стало. Гамлет, сомневающийся во всем, ни разу не ставит себе вопроса: «Да точно ли нужно мстить дяде?» Такая определенность задачи превосходно мотивируется появлением Духа. Конечно, в действительной жизни происходит иначе, и обыкновенно к сознанию необходимости известного поступка приходят путем сложных переживаний. Но Шекспир, чтобы не вдаваться в отступления, – сами по себе, может быть, и интересные, но стоящие вне пределов его задачи, – выводит на сцену тень отца. Она имеет в трагедии очень ограниченное значение и является исключительно за тем, чтобы рассказать принцу, что произошло и что нужно делать. Затем тень эта как будто и не являлась… Очевидно, приняв весть и приказание от духа, принц точно принял их от самого себя, точно он сам узнал, что преступление совершено и что нужно отомстить. Нельзя даже и сказать: «он видит и говорит с духом». Тень отца не вносит элемента сверхъестественного в драму. Явись вместо духа какой-нибудь живой человек, бывший свидетелем злодеяния Клавдия и имеющий достаточно авторитетности в глазах принца, – ход действия не изменился бы. Гамлет о духе и не вспоминает, точно не видел его. Он помнит лишь, что убили его отца и что нужно наказать убийцу». Последнее и фактически неверно: Гамлет видит еще раз отца и вспоминает его (сцена представления). Вообще взгляд на Тень как на фикцию, олицетворение, «персонификацию» идеи внутреннего долга Гамлета – это весьма характерно для «рационализированного» Гамлета. Зачем же тогда «темнота» пьесы? (По Шестову, ее нет; в ней все ясно как день.) Вместе с этим отрицается и вся пьеса, построенная на том, что не снилось нашей философии: ведь она вся сверхъестественна. Все это было бы так только в том случае, если бы в остальном пьеса не была бы сверхъестественна. Эта основная ошибка в понимании роли Тени роковым образом сказывается на всем понимании пьесы. Л. Шестов в другом месте (предисловие к «Юлию Цезарю», изд. Брокгауз и Ефрон) говорит: «Ведь «дух» в Гамлете не есть плод расстроенного воображения… Никто из критиков ни разу не обвинил Шекспира в том, что он позволил себе внести в реалистическую трагедию такой нелепый вымысел, как явление духа». И раньше: «Гамлет столкнулся с духом, пришельцем из иных стран». Однако не выясняет этого взгляда вовсе.]. Роль Тени в пьесе, ее место – совершенно иные. В этом убеждает нас весь имеющийся в драме «материал» – и стиль этого «материала». Если бы был правилен первый взгляд, то роль Тени была бы кончена после разоблачения, и её появление в третьем акте – нелепо; в неверности второго взгляда может убедить вся реальность потусторонности Тени, ее иномирности, ее «призрачности», ее замогильности, ее именно сверхъестественной стороны, которая насыщает трагедию. С установлением этого меняется совершенно взгляд и на роль Тени.
В драме нигде не только нет ни малейшего намека на указанные выше два взгляда на Тень, но, наоборот, все, каждое слово, каждый поступок оттеняют и подчеркивают полную реальность Тени в трагедии, именно ее замогильной, сверхъестественной стороны. Отношение к ней солдат, Горацио, Гамлета – то есть отражения ее влияния в душах действующих лиц (единственный наш материал) – свидетельствует именно об этом. К установлению этого мы сейчас и переходим: реальность Тени в трагедии – таков тезис этой главы.
Решающее значение в этом отношении, наиболее «доказательное», имеет первый акт, особенно первая сцена. Сцена открывается на террасе перед замком; ночная стража в Эльсиноре чувствует что-то тревожное. Все, с самого начала, с первого слова, странно, «неестественно» или «более, чем естественно». Все с самого начала предвещает несчастья и чудеса. Все окутано особой атмосферой душевного настроения – таинственного, ужасного, ночного. В тревожных окриках часовых, среди пугающего безмолвия необыкновенной ночи, нарастает темная и жуткая тревога. Франциско, которого сменяет Бернардо, на вопрос последнего: «Как в карауле?» отвечает: «Все, как мышь, притихло». И все же он очень обрадовался смене.
Бернардо
Поди поспи, Франциско.
Франциско
Спасибо, что сменили: я озяб,
И на сердце тоска.
Глубокая тишина, и мрак ночи, и резкий холод, и этот особенно уж невозмутимый покой («как мышь…») – все это в глубокий час полуночи («двенадцать бьет») создает особое чувство («и на сердце тоска») недужной и тревожной неловкости, «сердечной тошноты». Замечательны по непередаваемой напряженности тревоги вопросы, окрики часовых:
Бернардо
Кто здесь?
Этим начинается пьеса.
Франциско