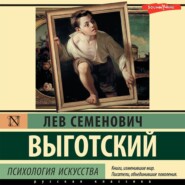По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Психология искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иначе говоря, само по себе произведение никогда не может быть ответственно за те мысли, которые могут появиться в результате его. Сама по себе мысль о политическом расцвете и о различном к нему отношении различных взглядов ни в какой степени не содержится в скромной загадке. Если мы ее буквальный смысл (окно, двери и сволок) заменим аллегорическим, загадка перестанет существовать как художественное произведение. Иначе не было бы никакой разницы между загадкой, басней и самым сложным произведением, если каждое из них могло бы вместить в себя самые великие мысли. Трудность заключается не в том, чтобы показать, что пользование произведениями искусства в каждую эпоху имеет свой особый характер, что «Божественная комедия» в нашу эпоху имеет совершенно не то общественное назначение, что в эпоху Данте, – трудность заключается в том, чтобы показать, что читатель, находящийся и сейчас под воздействием тех же самых формальных эмоций, что и современник Данте, по-иному пользуется теми же самыми психологическими механизмами и переживает «Божественную комедию» по-иному.
Иначе говоря, задача состоит в том, чтобы показать, что мы не только толкуем по-разному художественные произведения, но и по-разному их переживаем. Недаром Горнфельд статью о субъективности и изменчивости понимания назвал «О толковании художественного произведения». Важно показать, что самое объективное и, казалось бы, чисто образное искусство, как это Гюйо показал для пейзажа, и есть, в сущности говоря, та же самая лирическая эмоция в широком смысле слова, то есть специфическая эмоция художественной формы. «Мир “Записок охотника”, – говорит Гершензон, – ни дать ни взять крестьянство Орловской губернии 40-х годов; но если присмотреться внимательно, легко заметить, что это – маскарадный мир, именно – образы душевных состояний Тургенева, одетые в плоть, в фигуры, в быт и психологию орловских крестьян, а также – в пейзаж Орловской губернии».
Наконец, что самое важное, субъективность понимания, привносимый нами от себя смысл ни в какой мере не является специфической особенностью поэзии – он есть признак всякого вообще понимания. Как совершенно правильно формулировал Гумбольдт: всякое понимание есть непонимание, то есть процессы мысли, пробуждаемые в нас чужой речью, никогда вполне не совпадают с теми процессами, которые происходят у говорящего. Всякий из нас, слушая чужую речь и понимая ее, по-своему апперципирует слова и их значение, и смысл речи будет всякий раз для каждого субъективным не в большей мере и не меньше, чем смысл художественного произведения.
Брюсов вслед за Потебней видит особенность поэзии в том, что она пользуется синтетическими суждениями, в отличие от аналитических суждений науки. «Если суждение “человек смертен” по существу аналитично, хотя к нему и пришли путем индукции, через наблюдение, что все люди умирают, то выражение поэта (Ф. Тютчева) “звук уснул” есть суждение синтетическое. Сколько ни анализировать понятие “звук”, в нем нельзя открыть “сна”; надо к “звуку” придать нечто извне, связать, синтезировать с ним, чтобы получить сочетание “звук уснул”». Но вся беда в том, что подобными синтетическими суждениями положительно переполнена наша обыденная, обывательская и газетная деловая речь, и при помощи таких суждений мы никогда не найдем специфического признака психологии искусства, который отличает ее от всех других видов переживаний. Если газетная статья говорит: «Министерство пало», в этом суждении оказывается ровно столько же синтетики, как и в выражении «звук уснул». И наоборот, в поэтической речи мы найдем целый ряд таких суждений, которые никак нельзя будет признать суждениями синтетическими в только что названном смысле; когда Пушкин говорит: «Любви все возрасты покорны», он дает суждение совершенно не синтетическое, но вместе с тем очень поэтическую строку. Мы видим, что, останавливаясь на интеллектуальных процессах, возбуждаемых художественным произведением, мы рискуем потерять точный признак, отличающий их от всех других интеллектуальных процессов.
Если остановиться на другом признаке поэтического переживания, выдвигаемом этой теорией в качестве специфического отличия поэзии, придется назвать образность или чувственную наглядность представления. Согласно этой теории, произведение тем поэтичнее, чем нагляднее, полнее и отчетливее вызывается им чувственный образ и представление в сознании читающего. «Если, например, мысля понятие лошади, я дал себе время восстановить в памяти образ, скажем, вороного коня, скачущего галопом, с развевающеюся гривою и т. д., то моя мысль, несомненно, станет художественной – она будет актом маленького художественного творчества».
Выходит так, что всякое наглядное представление вместе с тем является уже и поэтическим. Надо сказать, что здесь как нельзя ярче выступает та связь, которая существует между теорией Потебни и ассоциативным и сенсуалистическим направлением психологии, на котором основываются все построения этой школы. Тот колоссальный переворот, который произошел в психологии со времен жесточайшей критики обоих этих направлений в применении к высшим процессам мышления и воображения, не оставляет камня на камне от прежней психологической системы, а вместе с ними падают совершенно и все основанные на нем утверждения Потебни. В самом деле, новая психология совершенно точно показала, что самое мышление совершается в своих высших формах совершенно без помощи наглядных представлений. Традиционное учение, говорящее, что мысль есть только связь образов или представлений, кажется совершенно оставленным после капитальных исследований Бюлера, Мессера, Аха, Уота и других психологов вюрцбургской школы. Отсутствие наглядных представлений в других мыслительных процессах может считаться совершенно незыблемым завоеванием новой психологии, и недаром Кюльпе пытается сделать чрезвычайно важные выводы и для эстетики. Он указывает на то, что все традиционное представление о наглядном характере поэтической картины совершенно падает в связи с новыми открытиями: «Следует только обратиться к наблюдениям читателей и слушателей. Нередко мы знаем, о чем идет речь, понимаем положение, поведение и характеры действующих лиц, но соответствующее или наглядное представление мыслим лишь случайно».
Шопенгауэр говорит: «Неужто мы переводим выслушиваемую нами речь в образы фантазии, мчащейся молниеносно мимо нас, сцепляющейся, превращающейся сообразно притекающим словам и их грамматическим оборотам. Какой сумбур был бы у нас в голове при выслушивании речи или при чтении книг. Во всяком случае, так не бывает». И в самом деле, жутко себе представить, какое уродливое искажение художественного произведения могло бы получиться, если бы мы реализовали в чувственных представлениях каждый образ поэта.
На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил.
Если попробовать представить себе наглядно все, что здесь перечислено, так, как это советует сделать Овсянико-Куликовский с понятием лошадь, – и океан, и руль, и туман, и эфир, и светила, – получится такой сумбур, что следа не останется от лермонтовского стихотворения. Можно с совершенной ясностью показать, что почти все художественные описания строятся с таким расчетом, что делают совершенно невозможным перевод каждого выражения и слова в наглядное представление. Как можно себе представить следующее двустишие Мандельштама:
А на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона.
Для наглядного представления это есть явная бессмыслица: «черный лед горит» – это непредставимо для нашей прозаической мысли, и плох был бы тот читатель, который стих «Песни песней» – «Твои волосы, как стадо коз, что сошли с гор Галаада; твои зубы, как стадо овец остриженных, что вышли из умывальни» – попробовал бы реализовать в наглядном представлении. С ним случилось бы то, что в пародийном стихотворении одного из русских юмористов произошло с мастером, пытавшимся отлить статую Суламифи с намерением дать наглядную реализацию метафорам «Песни песней»: получилось – «медный в шесть локтей болван».
Интересно, что в применении к загадке именно такая удаленность образа от того, что он должен означать, является непременным залогом ее поэтического действия. Пословица совершенно верно говорит: загадка – разгадка, а семь верст правды (или неправды). Оба варианта выражают одну и ту же мысль: что и правды и неправды между загадкой и разгадкой семь верст. Если мы эти семь верст уничтожим, весь эффект загадки пропадет. Так поступали те учителя, которые, желая заменить мудреные и трудные народные загадки рациональными и воспитывающими детскую мысль, задавали детям пресные загадки вроде следующих: что такое, что стоит в углу и чем метут комнату. Ответ: метла. Такая загадка именно в силу того, что она поддается полнейшей наглядной реализации, лишена всякого поэтического действия. В. Шкловский совершенно правильно указывает, что отношение образа к означаемому им слову совершенно не оправдывает закона Потебни, гласящего, что «образ есть нечто гораздо более простое и ясное, чем объясняемое», то есть «так как цель образности есть приближение образа к нашему пониманию и так как без этого образность лишена смысла, то образ должен нам быть более известен, чем объясняемое им». Шкловский говорит: «Этого “долга” не исполняют тютчевское сравнение зарниц с глухонемыми демонами, гоголевское сравнение неба с ризами господа и шекспировские сравнения, поражающие своей натянутостью».
Прибавим к этому, что всякая решительно загадка, как это указано выше, всегда идет от простого к более сложному, а не наоборот. Когда загадка спрашивает, что такое: «В мясном горшке железо кипит», и отвечает: «Удила» – она, конечно, дает образ, поражающий своей сложностью по сравнению с простой отгадкой. И так всегда. Когда Гоголь в «Страшной мести» дает знаменитое описание Днепра, он не только не содействует образному и отчетливо наглядному представлению этой реки, но создает явно фантастическое представление какой-то чудесной реки, нимало не похожей на настоящий Днепр и нимало не реализуемой в наглядных представлениях. Когда Гоголь утверждает, что Днепр – нет ему равной реки в мире, – в то время как он на деле не принадлежит к числу величайших рек, или когда он говорит, что «редкая птица долетит до середины Днепра», между тем как любая птица перелетит Днепр несколько раз туда и обратно, – он не только не приводит нас к наглядному представлению Днепра, но уводит нас от него в согласии с общими целями и задачами своей фантастической и романтической «Страшной мести». В том сцеплении мыслей, которое составляет эту повесть, Днепр действительно необыкновенная и фантастическая река.
Этим примером очень часто пользуются школьные учебники для того, чтобы выяснить отличие поэтического описания от прозаического, и в полном согласии с теорией Потебни утверждают, что разница между описанием гоголевским и описанием в учебнике географии только в том и состоит, что Гоголь дает образное, картинное, наглядное представление о Днепре, а география – сухое, точное понятие о нем. Между тем из простейшего анализа ясно, что и звуковая форма этого ритмического отрывка, и его гиперболическая, немыслимая образность направлены к тому, чтобы создать совершенно новое значение, которое нужно для целого той повести, в которой он представляет часть.
Все это можно привести к совершенной ясности, если напомнить, что само по себе слово, которое является настоящим материалом поэтического творчества, отнюдь не обладает обязательно наглядностью и что, следовательно, коренная психологическая ошибка заключается в том, что на место слова сенсуалистическая психология подставляет наглядный образ. «Материалом поэзии являются не образы и не эмоции, а слово», – говорит В. М. Жирмунский, вызываемые словом чувственные образы могут и не быть, во всяком случае, они будут лишь субъективным добавлением воспринимающего к смыслу воспринимаемых им слов. «На этих образах построить искусство невозможно: искусство требует законченности и точности и потому не может быть предоставлено произволу воображения читателя: не читатель, а поэт создает произведение искусства».
Легко убедиться в том, что по самой психологической природе слова оно почти всегда исключает наглядное представление. Когда поэт говорит «лошадь», в его слове не заключена ни развевающаяся грива, ни бег и т. п. Все это привносится читателем от себя и совершенно произвольно. Стоит только применить к таким читательским добавлениям знаменитое выражение «чуть-чуть», и мы увидим, как мало эти случайные, расплывчатые, неопределенные элементы могут быть предметом искусства. Обычно говорят, что читатель или зритель своей фантазией дополняет данный художником образ. Однако Христиансен блестяще разъяснил, что это имеет место только тогда, когда художник остается господином движения нашей фантазии и когда элементы формы совершенно точно предопределяют работу нашего воображения. Так бывает при изображении на картине глубины или дали. Но художник никогда не предоставляет произвольного дополнения нашей фантазии. «Гравюра передает все предметы в черных и белых цветах, но их вид не таков, и, рассматривая гравюру, мы вовсе не получаем впечатления черных и белых вещей, мы не воспринимаем деревья черными, луга зелеными, а небо белым. Но зависит ли это от того, что наша фантазия, как полагают, дополняет краски ландшафта в образном представлении, подставляет ли она на место того, что на самом деле показывает гравюра, образ красочного ландшафта с зелеными деревьями и лугами, пестрыми цветами и синим небом? Я думаю, художник сказал бы – благодарю покорно за такую работу профанов над его произведением. Возможная дисгармония дополненных цветов могла бы погубить его рисунок. Но следите сами за собой: разве мы на самом деле видим цвета; конечно, у нас есть впечатление совершенно нормального ландшафта, с естественными красками, но мы его не видим, впечатление остается внеобразным».
Теодор Мейер в обстоятельном исследовании, которое сразу приобрело большую известность, с исчерпывающей обстоятельностью показал, что самый материал, которым пользуется поэзия, исключает образное и наглядное представление изображаемого ею, и определил поэзию «как искусство не наглядного словесного представления».
Анализируя все формы словесного изображения и возникновения представлений, Мейер приходит к выводу, что изобразительность и чувственная наглядность не составляют психологического свойства поэтического переживания и что содержание всякого поэтического описания по самому существу внеобразно. То же самое путем чрезвычайно острой критики и анализа показал Христиансен, когда установил, что «целью изображения предметного в искусстве является не чувственный образ объекта, но безобразное впечатление предмета», причем особенную заслугу Христиансена представляет то, что он доказал это положение для изобразительных искусств, в которых этот тезис наталкивается на самые большие возражения. «Ведь укоренилось мнение, что цель изобразительных искусств – служить взорам, что они хотят давать и еще усиливать зрительное качество вещей. Как, неужели и здесь искусство стремится не к чувственному образу объекта, а к чему-то безо?бразному, когда оно создает “картины” и само называется изобразительным». Анализ, однако, показывает, «что и в изобразительном искусстве, так же, как и в поэзии, безо?бразное впечатление является конечной целью изображения предмета…»
«Итак, повсюду мы вынуждены были вступить в противоречие с догмой, утверждающей самоцель чувственного содержания в искусстве. Развлекать наши чувства не составляет конечной цели художественного замысла. Главное в музыке – это неслышное, в пластическом искусстве – невидимое и неосязаемое», там же, где образ возникает намеренно или случайно, он никогда не может служить признаком поэтичности. Говоря о подобной теории Потебни, Шкловский замечает: «В основу этого построения положено уравнение: образность равна поэтичности. В действительности же такого равенства не существует. Для его существования было бы необходимо принять, что всякое символическое употребление слова непременно поэтично, хотя бы только в первый момент создания данного символа. Между тем мыслимо употребление слова в непрямом его значении, без возникновения при этом поэтического образа. С другой стороны, слова, употребленные в прямом смысле и соединенные в предложения, не дающие никакого образа, могут составлять поэтическое произведение, как, например, стихотворение Пушкина “Я вас любил: любовь еще, быть может…”. Образность, символичность не есть отличие поэтического языка от прозаического».
И наконец, самой существенной и сокрушительной критике подверглась в последнее десятилетие традиционная теория воображения как комбинации образов. Школа Мейнонга и других исследователей с достаточной глубиной показала, что воображение и фантазия должны рассматриваться как функции, обслуживающие нашу эмоциональную сферу, и что даже тогда, когда они обнаруживают внешнее сходство с мыслительными процессами, в корне этого мышления всегда лежит эмоция. Генрих Майер наметил важнейшие особенности этого эмоционального мышления, установив, что основная тенденция в фактах эмоционального мышления существенно иная, чем в мышлении дискурсивном. Здесь отодвинут на задний план, оттеснен и не опознан познавательный процесс. В сознании происходит eine Vorstellungsgestaltung, nicht Auffassung. Основная цель процесса совершенно иная, хотя внешние формы часто совпадают. Деятельность воображения представляет собой разряд аффектов, подобно тому как чувства разрешаются в выразительных движениях. Среди психологов существует два мнения по поводу того, усиливается или ослабляется эмоция под влиянием аффективных представлений. Вундт утверждал, что эмоция делается слабее, Леман полагал, что она усиливается. Если применить к этому вопросу принцип однополюсной траты энергии, введенный проф. Корниловым в толкование интеллектуальных процессов, станет совершенно ясно, что и в чувствованиях, как и в актах мысли, всякое усиление разряда в центре приводит к ослаблению разряда в периферических органах. И там и здесь центральный и периферический разряды стоят в обратном отношении друг к другу, и, следовательно, всякое усиление от аффективных представлений, в сущности говоря, представляет собою акт эмоции, аналогичный актам усложнения реакции путем привнесения в него интеллектуальных моментов выбора, различения и т. п. Подобно тому, как интеллект есть только заторможенная воля, вероятно, следует представить себе фантазию как заторможенное чувство. Во всяком случае, видимое сходство с интеллектуальными процессами не может затенить принципиального отличия, которое здесь существует. Даже чисто познавательные суждения, которые относятся к произведению искусства и составляют Verst?ndis-Urteile, являются не суждениями, но эмоционально аффективными актами мысли. Так, если при взгляде на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» у меня возникает мысль: «Вон этот там – это Иуда; он, очевидно, в испуге, опрокинул солонку» – это есть по Майеру не что иное, как следующее: «То, что я вижу, есть для меня Иуда только в силу аффективно эстетического способа представления». Все это согласно указывает на то, что теория образности, как и утверждение об интеллектуальном характере эстетической реакции, встречает сильнейшие возражения со стороны психологии. Там же, где образность имеет место как результат деятельности фантазии, она оказывается подчиненной совершенно другим законам, нежели законы обычного воспроизводящего воображения и обычного логически-дискурсивного мышления. Искусство есть работа мысли, но совершенно особенного эмоционального мышления, и, даже введя эти поправки, мы еще не решили стоящей перед нами задачи. Нужно не только выяснить совершенно точно, чем отличаются законы эмоционального мышления от прочих типов этого процесса, нужно еще дальше показать, чем отличается психология искусства от других видов того же эмоционального мышления.
Ни на чем бессилие интеллектуалистической теории не обнаруживается с такой исчерпывающей полнотой и леностью, как на тех практических результатах, к которым она привела. В конечном счете всякую теорию легче всего проверить по рождаемой ею же самой практике. Лучшим свидетельством того, насколько та или иная теория правильно познает и понимает изучаемые ею явления, служит та мера, в которой она овладевает этими явлениями. И если мы обратимся к практической стороне дела, мы увидим наглядную манифестацию совершенного бессилия этой теории в деле овладения фактами искусства. Ни в области литературы, ни в области ее преподавания, ни в области общественной критики, ни, наконец, в области теории и психологии творчества она не создала ничего такого, что бы могло свидетельствовать о том, что она овладела тем или иным законом психологии искусства. Вместо истории литературы она создавала историю русской интеллигенции (Овсянико-Куликовский), историю общественной мысли (Иванов-Разумник) и историю общественного движения (Пыпин). И в этих поверхностных и методологически ложных трудах она в одинаковой мере искажала и литературу, которая служила ей материалом, и ту общественную историю, которую она пыталась познать при помощи литературных явлений. Когда интеллигенцию 20-х годов пытались вычитать из «Евгения Онегина», тем самым одинаково ложно создавали впечатление и о «Евгении Онегине», и об интеллигенции 20-х годов. Конечно, в «Евгении Онегине» есть известные черты интеллигенции 20-х годов прошлого века, но эти черты до такой степени изменены, преображены, дополнены другими, приведены в совершенно новую связь со всем сцеплением мыслей, что по ним так же точно нельзя составить себе верного представления об интеллигенции 20-х годов, как по стихотворному языку Пушкина нельзя написать правил и законов русской грамматики.
Плох был бы тот исследователь, который, исходя из тех фактов, что в «Евгении Онегине» «отразился русский язык», вывел бы заключение, что в русском языке слова располагаются в размере четырехстопного ямба и рифмуются так, как рифмуются строфы у Пушкина. До тех пор, пока мы не научились отделять добавочные приемы искусства, при помощи которых поэт перерабатывает взятый им из жизни материал, остается методологически ложной всякая попытка познать что-либо через произведение искусства.
Остается показать последнее: что всеобщая предпосылка такого практического применения теории – типичность художественного произведения – должна быть взята под величайшее критическое сомнение. Художник вовсе не дает коллективной фотографии жизни, и типичность вовсе не есть обязательно преследуемое им качество. И поэтому тот, кто, ожидая найти повсюду в литературе эту типичность, будет пытаться изучать историю русской интеллигенции по Чацким и Печориным, рискует остаться при совершенно ложном понимании изучаемых явлений. При такой установке научного исследования мы рискуем попасть в цель только один раз из тысячи. А это лучше всяких теоретических соображений говорит о неосновательности той теории, по расчетам которой мы наметили свой прицел.
Глава III. Искусство как прием
Реакция на интеллектуализм. Искусство как прием. Психология сюжета, героя, литературных идей, чувств. Психологическое противоречие формализма. Непонимание психологии материала. Практика формализма. Элементарный гедонизм.
Уже из предыдущего мы видели, что непонимание психологии формы было основным грехом господствовавшей у нас психологической теории искусства и что ложные в своей основе интеллектуализм и теория образности породили целый ряд очень далеких от истины и запутанных представлений. Как здоровая реакция против этого интеллектуализма возникло у нас формальное течение, которое начало создаваться и осознавать себя только из оппозиции к прежней системе. Это новое направление попыталось в центр своего внимания поставить находившуюся раньше в пренебрежении художественную форму; оно исходило при этом не только из неудач прежних попыток понять искусство, отбросивши его форму, но и из основного психологического факта, который, как увидим ниже, лежит в основе всех психологических теорий искусства. Этот факт заключается в том, что художественное произведение, если разрушить его форму, теряет свое эстетическое действие. Отсюда соблазнительно было заключить, что вся сила его действия связана исключительно с его формой. Новые теоретики так и формулировали свой взгляд на искусство, что оно есть чистая форма, совершенно не зависящая ни от какого содержания. Искусство было объявлено приемом, который служит сам себе целью, и там, где прежние исследователи видели сложность мысли, там новые увидели просто игру художественной формы. Искусство при этом повернулось к исследователям совсем не той стороной, которой оно было обращено к науке прежде. Шкловский формулировал этот новый взгляд, когда заявил: «Литературное произведение есть чистая форма, оно есть не вещь, не материал, а отношение материалов. И как всякое отношение, и это – отношение пулевого измерения. Поэтому безразличен масштаб произведения, арифметическое значение его числителя и знаменателя, важно их отношение. Шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения, противопоставления мира миру или кошки камню – равны между собой».
В зависимости от этой перемены взгляда формалисты должны были отказаться от обычных категорий формы и содержания и заменить их двумя новыми понятиями – формы и материала. Все то, что художник находит готовым, будь то слова, звуки, ходячие фабулы, обычные образы и т. п., – все это составляет материал художественного произведения вплоть до тех мыслей, которые заключены в произведении. Способ расположения и построения этого материала обозначается как форма этого произведения, опять-таки независимо от того, прилагается ли это понятие к расположению звуков в стихе или к расположению событий в рассказе или мысли в монологе. Таким образом, чрезвычайно плодотворно и с психологической точки зрения существенно было расширено обычное понятие формы. В то время как прежде под формой в науке понимали нечто весьма близкое к обывательскому употреблению этого слова, то есть исключительно внешний, чувственно воспринимаемый облик произведения, как бы его внешнюю оболочку, относя за счет формы чисто звуковые элементы поэзии, красочные сочетания в живописи и т. п., – новое понимание расширяет это слово до универсального принципа художественного творчества. Под формой оно понимает всякое художественное расположение готового материала, сделанное с таким расчетом, чтобы вызвать известный эстетический эффект. Это и называется художественным приемом. Таким образом, всякое отношение материала в художественном произведении будет формой или приемом. Так, с этой точки зрения, стих есть не совокупность составляющих его звуков, а есть последовательность или чередование их соотношения. Стоит переставить слова в стихе, сумма составляющих его звуков, то есть материал его, останется ненарушенной, но исчезнет его форма, стих. Точно так же, как в музыке сумма звуков не составляет мелодии, а последняя является результатом соотношения звуков, так же и всякий прием искусства есть в конечном счете построение готового материала или его формирование.
С этой точки зрения формалисты подходят к сюжету художественного произведения, который прежними исследователями обозначался как содержание. Поэт большей частью находит готовым тот материал событий, действий, положений, которые составляют материал его рассказа, и его творчество заключается только в формировании этого материала, придании ему художественного расположения, совершенно аналогично тому, как поэт не изобретает слова, только располагает их в стих. «Методы и приемы сюжетосложения сходны и в принципе одинаковы с приемами хотя бы звуковой инструментовки. Произведения словесности представляют собой сплетение звуков, артикуляционных движении и мыслей. Мысль в литературном произведении или такой же материал, как произносительная и звуковая сторона морфемы, или же инородное тело». И дальше: «Сказка, новелла, роман – комбинация мотивов; песня – комбинация стилистических мотивов; поэтому сюжет и сюжетность являются такой же формой, как и рифма. В понятии “содержание” при анализе произведения искусства с точки зрения сюжетности надобности не встречается».
Таким образом, сюжет определяется новой школой в отношении к фабуле так, как стих в отношении к составляющим его словам, как мелодия в отношении к составляющим ее нотам, как форма к материалу. «Фабуле противостоит сюжет: те же события, но в их изложении, в том порядке, в каком они сообщены в произведении, в той связи, в какой даны в произведении сообщения о них…» Кратко выражаясь, фабула – это то, «что было на самом деле», сюжет – то, «как узнал об этом читатель».
«…Фабула есть лишь материал для сюжетного оформления, – говорит Шкловский. – Таким образом, сюжет “Евгения Онегина” не роман героя с Татьяной, а сюжетная обработка этой фабулы, произведенная введением перебивающих отступлений».
С этой же точки зрения подходят формалисты и к психологии действующих лиц. И эту психологию мы должны понимать только как прием художника, который заключается в том, что заранее данный психологический материал искусственно и художественно перерабатывается и оформляется художником в соотношении с его эстетическим заданием. Таким образом, объяснение психологии действующих лиц и их поступков мы должны искать не в законах психологии, а в эстетической обусловленности заданиями автора. Если Гамлет медлит убить короля, то причину этого надо искать не в психологии нерешительности и безволия, а в законах художественного построения. Медлительность Гамлета есть только художественный прием трагедии, и Гамлет не убивает короля сразу только потому, что Шекспиру нужно было затянуть трагическое действие по чисто формальным законам, как поэту нужно подобрать слова под рифму не потому, что таковы законы фонетики, но потому, что таковы задания искусства. «Не потому задерживается трагедия, что Шиллеру надо разработать психологию медлительности, а как раз наоборот – потому Валленштейн медлит, что трагедию надо задерживать, а задержание это скрыть. То же самое – и в “Гамлете”».
Таким образом, ходячее представление о том, что по «Скупому рыцарю» можно изучить психологию скупости, а по «Сальери» – психологию зависти, окончательно дискредитируется, как и другие столь же популярные и гласящие, будто задачей Пушкина было изобразить скупость и зависть, а задачей читателя – познать их. И скупость, и зависть с новой точки зрения есть только такой же материал для художественного построения, как звуки в стихе и как гамма рояля.
«Зачем король Лир не узнает Кента? Почему Кент и Лир не узнают Эдгара?.. Почему мы в танце видим просьбу после согласия. Что развело и разбросало по свету Глана и Эдварду в “Пане” Гамсуна, хотя они любили друг друга?» На все эти вопросы было бы нелепо искать ответ в законах психологии, потому что все это имеет одну мотивировку – мотивировку художественного приема, и кто не понимает этого, тот равным образом не понимает, для чего слова в стихе располагаются не в том порядке, как в обычной речи, и какой совершенно новый эффект дает это искусственное расположение материала.
Такое же изменение претерпевает и обычное воззрение на чувство, якобы заключенное в произведении искусства. И чувства оказываются только материалом или приемом изображения. «Сентиментальность не может быть содержанием искусства, хотя бы потому уже, что в искусстве нет содержания. Изображение вещей с “сентиментальной точки зрения” есть особый метод изображения, такой же, например, как изображение их с точки зрения лошади (Толстой, “Холстомер”) или великана (Свифт).
По существу своему искусство внеэмоционально… Искусство безжалостно или внежалостно, кроме тех случаев, когда чувство сострадания взято как материал для построения. Но и тут, говоря о нем, нужно рассматривать его с точки зрения композиции, точно так же, как нужно, если вы желаете понять машину, смотреть на приводной ремень как на деталь машины, а не рассматривать его с точки зрения вегетарианца».
Таким образом, и чувство оказывается только деталью художественной машины, приводным ремнем художественной формы.
Совершенно ясно, что при такой перемене крайнего взгляда на искусство «вопрос идет не о методах изучения литературы, а о принципах построения литературной науки», как говорит Эйхенбаум. Речь идет не об изменении способа изучения, а об изменении самого основного объяснительного принципа. При этом сами формалисты исходят из того факта, что они покончили с дешевой и популярной психологической доктриной искусства, а потому склонны рассматривать свой принцип как принцип антипсихологический по существу. Одна из их методологических основ в том и заключается, чтобы отказаться от всякого психологизма при построении теории искусства. Они пытаются изучать художественную форму как нечто совершенно объективное и независимое от входящих в ее состав мыслей и чувств и всякого другого психологического материала. «Художественное творчество, – говорит Эйхенбаум, – по самому существу своему сверхпсихологично – оно выходит из ряда обыкновенных душевных явлений и характеризуется преодолением душевной эмпирики. В этом смысле душевное, как нечто пассивное, данное, необходимо надо отличать от духовного, личное – от индивидуального».
Однако с формалистами происходит то же самое, что и со всеми теоретиками искусства, которые мыслят построить свою науку вне социологических и психологических основ. О таких же критиках Г. Лансон совершенно правильно говорит: «Мы, критики, делаем то же, что господин Журден. Мы “говорим прозой”, то есть, сами того не ведая, занимаемся социологией», и так же как знаменитый герой Мольера только от учителя должен был узнать, что он всю жизнь говорил прозой, так всякий исследователь искусства узнает от критика, что он, сам того не подозревая, фактически занимался социологией и психологией, потому что слова Лансона с совершенной точностью могут быть отнесены и к психологии.
Показать, что в основе формального принципа так же точно, как в основе всяких других построений искусства, лежат известные психологические предпосылки и что формалисты на деле вынуждены быть психологами и говорить подчас запутанной, но совершенно психологической прозой, чрезвычайно легко. Так, исследование Томашевского, основанное на этом принципе, начинается следующими словами: «Невозможно дать точное объективное определение стиха. Невозможно наметить основные признаки, отделяющие стих от прозы. Стихи мы узнаем по непосредственному восприятию. Признак “стихотворности” рождается не только из объективных свойств поэтической речи, но и из условий ее художественного восприятия, из вкусового суждения о ней слушателя».
Что это означает, как не признание, что без психологического объяснения у формальной теории нет никаких объективных данных для основного определения природы стиха и прозы – этих наиболее отчетливых и ясных формальных приемов. То же самое становится совершенно ясно и из самого поверхностного анализа выдвигаемой формалистами формулы. Формула формалистов «искусство как прием» естественно вызывает вопрос: «Прием чего?» Как совершенно правильно указывал в свое время Жирмунский, прием ради приема, прием, взятый сам для себя, ни на что не направленный, – есть не прием, а фокус. И сколько формалисты ни стараются оставить этот вопрос без ответа, они опять, как Журден, дают на него ответ, хотя сами и не сознают его. Этот ответ заключается в том, что у приема искусства оказывается своя цель, которой он всецело определяется и которая не может быть определена иначе, как в психологических понятиях. Основой этой психологической теории оказывается учение об автоматизме всех наших привычных переживаний. «Если мы станем разбираться в общих законах восприятия, то увидим, что, становясь привычными, действия делаются автоматическими. Так уходят, например, в среду бессознательно-автоматического все наши навыки; если кто вспомнит ощущение, которое он имел, держа в первый раз перо в руках или говоря в первый раз на чужом языке, и сравнит это ощущение с тем, которое он испытывает, проделывая это в десятитысячный раз, то согласится с нами. Процессом об автоматизации объясняются законы нашей прозаической речи, с ее недостроенной фразой и с ее полувыговоренным словом… При таком алгебраическом методе мышления вещи берутся счетом и пространством, они не видятся нами, а узнаются по первым чертам. Вещь проходит мимо нас как бы запакованной, мы знаем, что она есть, по месту, которое она занимает, но видим только ее поверхность… И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи – как видение, а не как узнавание: приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно».
Оказывается, следовательно, что у того приема, из которого слагается художественная форма, есть своя цель, и при определении этой цели теория формалистов впадает в удивительное противоречие сама с собой, когда она начинает с утверждения, что в искусстве важны не вещи, не материал, не содержание, а кончает тем, что утверждает: целью художественной формы является «прочувствовать вещь», «сделать камень каменным», то есть сильнее и острее пережить тот самый материал, с отрицания которого мы начали. Благодаря этому противоречию теряется все истинное значение найденных формалистами законов остранения и т. п., так как целью этого остранения, в конце концов, оказывается то же восприятие вещи, и этот основной недостаток формализма – непонимание психологического значения материала – приводит его к такой же сенсуалистической односторонности, как непонимание формы привело потебнианцев к односторонности интеллектуалистической. Формалисты полагают, что в искусстве материал не играет никакой роли и что поэма разрушения мира и поэма о кошке и камне совершенно равны с точки зрения их поэтического действия. Вслед за Гейне они думают, что «в искусстве форма все, а материал не имеет никакого значения»: «Штауб (портной) считает за фрак, который он шьет из своего сукна, ровно столько же, сколько за фрак, который он шьет из сукна заказчика. Он просит оплатить ему только форму, а материал отдает даром». Однако сами же исследователи должны были убедиться, что не только все портные не похожи на Штауба, но и в том, что в художественном произведении мы оплачиваем не только форму, но и материал. Сам же Шкловский утверждает, что подбор материала далеко не безразличен. Он говорит: «Выбирают величины значимые, ощутимые. Каждая эпоха имеет свой индекс, свой список запрещенных за устарелостью тем». Однако легко убедиться, что каждая эпоха имеет список не только запрещенных, но и разрабатываемых ею тем и что, следовательно, самая тема или материал построения оказываются далеко не безразличными в смысле психологического действия целого художественного произведения.
Жирмунский совершенно правильно различает два смысла формулы «искусство как прием». Ее первый смысл заключается в том, что она предписывает рассматривать произведение «как эстетическую систему, обусловленную единством художественного задания, то есть как систему приемов».
Но совершенно ясно, что в таком случае всякий прием есть не самоцель, а получает смысл и значение в зависимости от того общего задания, которому он подчинен. Если же под этой формулой, как гласит ее второй смысл, мы будем понимать не метод, а конечную задачу исследования, и будем утверждать: «Все в искусстве есть только художественный прием, в искусстве на самом деле нет ничего, кроме совокупности приемов», мы, конечно, впадем в противоречие с самыми очевидными фактами, гласящими, что и в процессе творчества, и в процессе восприятия есть много заданий внеэстетического порядка и что все так называемое прикладное искусство одной стороной представляет прием, а другой – практическую деятельность. Вместо формальной теории мы рискуем здесь получить «формалистические принципы» и совершенно ложное представление о том, что тема, материал и содержание не играют роли в художественном произведении. Совершенно правильно отмечает Жирмунский, что самое понятие о поэтическом жанре как об особом композиционном единстве связано с тематическими определениями. Ода, поэма и трагедия – каждая имеет свой характерный круг тем.
К таким выводам могли прийти формалисты, только исходя в своих построениях из искусств неизобразительных, беспредметных, как музыка или декоративный орнамент, толкуя по аналогии с узором все решительно художественные произведения. Как в орнаменте у линии нет другой задачи, кроме формальной, так и во всех остальных произведениях отрицается формалистами всякая внеформальная реальность. «Отсюда, – говорит Жирмунский, – отождествление сюжета “Евгения Онегина” с любовью Ринальдо и Анджелики во “Влюбленном Роланде” Боярдо: все различие в том, что у Пушкина “причины неодновременности увлечения их друг другом даны в сложной психологической мотивировке”, а у Боярдо “тот же прием мотивирован чарами”… Мы могли бы присоединить сюда же известную басню о журавле и цапле, где осуществляется та же сюжетная схема в “обнаженной” форме: “А любит Б, Б не любит А; когда же Б полюбил А, то А уже не любит Б”. Думается, однако, что для художественного впечатления “Евгения Онегина” это сродство с басней является весьма второстепенным и что гораздо существеннее то глубокое качественное различие, которое создается благодаря различию темы (“арифметического значения числителя и знаменателя”), в одном случае – Онегина и Татьяны, в другом случае – журавля и цапли».
Исследования Христиансена показали, что «материал художественного произведения участвует в синтезе эстетического объекта» и что он отнюдь не подчиняется закону геометрического отношения, совершенно не зависящего от абсолютной величины входящих в него членов. Это легко заметить при сохранении одной и той же формы и изменении абсолютной величины материала. «Музыкальное произведение кажется независимым от высоты тона, скульптура – от абсолютной величины; лишь тогда, когда изменения достигают крайних пределов, деформация эстетического объекта становится заметной всем».
Операция, которую надо проделать, чтобы убедиться в значимости материала, совершенно аналогична с той, посредством которой мы убеждаемся в значимости формы. Там мы разрушаем форму и убеждаемся в уничтожении художественного впечатления; если мы, сохранив форму, перенесем ее на совершенно другой материал, мы опять убедимся в искажении психологического действия произведения. Христиансен показал, как важно это искажение, если мы ту же самую гравюру отпечатаем на шелку, японской или голландской бумаге, если ту же статую высечем из мрамора или отольем из бронзы, тот же роман переведем с одного языка на другой. Больше того, если мы уменьшим или увеличим сколько-нибудь значительно абсолютную величину картины или высоту тона мелодии, мы получим совершенно явную деформацию. Это станет еще яснее, если мы примем во внимание, что под материалом Христиансен разумеет материал в узком смысле слова, самое вещество, из которого сделано произведение, и отдельно выделяет предметное содержание искусства, относительно которого приходит к такому же точно выводу. Это, однако, не значит, что материал или предметное содержание имеет значение благодаря своим внеэстетическим качествам, например, благодаря стоимости бронзы или мрамора и т. п. «Хотя влияние предмета не зависит от его внеэстетических ценностей, он все же может оказаться важной составной частью синтезированного объекта… Хорошо нарисованный пучок редьки выше скверно нарисованной мадонны, стало быть, предмет совершенно не важен… Тот самый художник, который пишет хорошую картину на тему “пучок редьки”, может быть, не сумеет справиться с темой мадонны… Будь предмет совершенно безразличен, что могло бы помешать художнику на одну тему создать столь же прекрасную картину, как и на другую?»
Чтобы уяснить себе действие и влияние материала, нужно принять во внимание следующие два чрезвычайно важных соображения: первое заключается в том, что восприятие формы в его простейшем виде не есть еще сам по себе эстетический факт. Мы встречаемся с восприятием форм и отношений на каждом шагу в нашей повседневной деятельности, и, как это показали недавно блестящие опыты Келера, восприятие формы спускается очень глубоко по лестнице развития животной психики. Его опыты заключались в том, что он дрессировал курицу на восприятие отношений или форм. Курице предъявлялось два листа бумаги А и В, из которых А был светло-серого, а В темно-серого цвета. На листе А зерна были приклеены, на листе В наложены свободно, и курица после ряда опытов приучалась подходить прямо к темно-серому листу бумаги В и клевать. Тогда курице были предъявлены однажды два листа бумаги: один прежний В, темно-серый, и другой новый С, еще более темно-серый.
Таким образом, в новой паре был оставлен один член прежний, но только он играл роль более светлого, то есть ту, которую в прежней паре играл лист А. Казалось бы, курица, выдрессированная на то, чтобы клевать зерна с листа В, должна была бы и сейчас обратиться прямо к нему, так как другой, новый лист является для нее неизвестным. Так было бы, если бы дрессировка производилась на абсолютное качество цвета. Но опыт показывает, что курица обращается к новому листу С и обходит прежний лист В, потому что выдрессирована она не на абсолютное качество цвета, а на его относительную силу. Она реагирует не на лист В, а на члена пары, на более темный, и так как в новой паре В играет не ту роль, что в прежней, он оказывает совершенно иное действие.