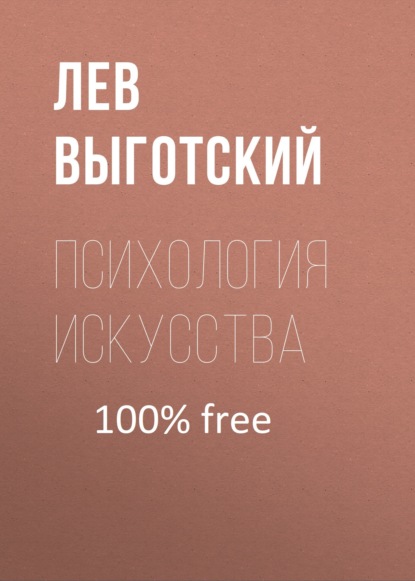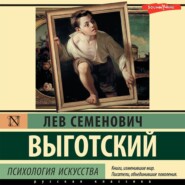По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Психология искусства (вариант)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С нее сберешь ты плод.
Послушай, что случилося с Ягненком.
Поставь свою ты куклу в уголок:
Рассказ мой будет короток.
Или прежде:
Ужели не глядеть? Ужель не улыбаться?
Не то я говорю; но только всякий шаг
Вы свой должны обдумать так,
Чтоб было не к чему злословью и придраться.
Здесь совершенно явно басня рассказывается в приеме литературной маски, и, если взять ту мораль, которую автор выводит из своей басни, мы увидим, что она ни в малой степени не вытекает из самого рассказа и скорей служит шуточным дополнением к тону всего рассказа. Прибавим к этому, что, несмотря на трагическое содержание рассказа, он весь передан все же в явно комическом стиле и тоне. Таким образом, ни содержание рассказа, ни мораль его ни в малой степени не определяют характера обобщения, а оно, наоборот, показывает совершенно ясно свою роль – маски.
Или в другой басне Крылов говорит:
Вот, милый друг, тебе сравненье и урок:
Он и для взрослого хорош и для ребенка.
Ужли вся басня тут? – ты спросишь; погоди,
Нет, это только побасенка,
А басня будет впереди,
И к ней я наперед скажу нравоученье.
Вот вижу новое в глазах твоих сомненье:
Сначала краткости, теперь уж ты
Боишься длинноты.
Что ж делать, милый друг: возьми терпенье!
Я сам того ж боюсь.
Но как же быть? Теперь я старе становлюсь.
Погода к осени дождливей,
А люди к старости болтливей.
Опять явная игра с этим литературным приемом, явное указание на то, что басенный рассказ есть известная литературная условность стиля, тона, точки зрения, что показано здесь с необычайной ясностью. Последний элемент построения басни и теории Лессинга, или, вернее сказать, свойство ее рассказа, заключается в требовании, чтобы этот рассказ представлял собой единичный случай, а не общий рассказ. И на этом последнем элементе, как и на предыдущих трех, видна все та же двойственность обсуждаемого предмета. Он получает совершенно разное истолкование, возьмем ли мы поэтическую или прозаическую басни.
И Лессинг и Потебня выдвигают требование, чтобы рассказ в басне непременно относился к единичному и частному случаю. «Вспомните басню Нафана. Обратите внимание на то свойство, о котором я говорю: Нафан говорит: «один человек». Почему он не мог сказать «некоторые люди» или «все люди»? Если он действительно не мог этого сказать, по самому свойству басни, то этим будет доказано, что образ басни должен быть единичным» (92, с. 28).
Потебня совершенно ясно говорит, что для него затруднительно объяснить это требование и мотивировать его, потому что «здесь мы выходим из области рассматриваемого, то есть из области поэзии, и сталкиваемся с теми произведениями, которые называются прозою…» (92, с. 28).
Иначе говоря, причина этого требования заключается, по мнению Потебни, в некоторых свойствах нашей логической мысли, в том, что всякое обобщение наше ведет нас к частностям, в нем же заключенным, но не к частностям другого круга. Не более удовлетворительно объясняет этот случай и Лессинг. По его словам, знаменитый пример Аристотеля относительно избрания магистрата, подобно тому как владелец корабля стал бы по выбору назначать кормчего, только тем отличается от басни, что он представляет все дело, как если бы оно произошло, оно осознается как возможное, а здесь оно приобретает действительность, здесь это определенный, это тот владелец корабля: «В этом суть дела. Единичный случай, из которого состоит басня, должен быть представлен как действительный. Если бы я удовлетворялся только возможностью его, это был бы пример, парабола» (150, S. 39).
Суть басни, следовательно, заключается в том, что она должна быть рассказана как некий частный случаи. «Басня требует действительного случая, потому что в действительном случае мы можем лучше и отчетливее различить причины поступков, потому что действительность дает более живое доказательство, чем возможное» (150, S. 43). Необоснованность этого утверждения сама собой бросается в глаза. Никакой коренной, принципиальной разницы между единичным и всеобщим случаем здесь не оказывается, и мы можем положительна утверждать, что всякое общее естественнонаучное положение, рассказанное как басня, может служить прекрасным материалом для вывода из него известного морального положения. Еще больше не можем мы понять, почему басенному рассказу непременно должна принадлежать действительность и имеет ли в виду здесь басня действительность в точном смысле этого слова или же нет. Напротив того, мы можем легко показать в целом ряде случаев, что басня намечает как бы свою особую действительность и часто ссылается на то, что «так рассказывается в басне», и вообще басня описывает действительность случая не с большей реалистичностью, чем рассказ.
Не помню, у какой реки,
Злодеи царства водяного,
Приют имели рыбаки.
И очень часто автор ссылается на такую сказочность того происшествия, которое он собирается предложить вниманию читателя. Очень часто он прямо противопоставляет ее действительности:
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим.
Но мы Истории не пишем;
А вот о том, как в Баснях говорят…
Здесь прямо история басенная противопоставляется истории действительной, между тем в рассуждениях Лессинга и в рассуждениях Потебни заключена та несомненная фактическая правда, что в действительности басня всегда имеет дело именно с единичным случаем и притом случай этот бывает рассказан как действительный. Но они оказываются бессильными объяснить причину этого факта. Стоит только подойти к поэтической басне со всеми присущими ей особенностями искусства, как и этот элемент или свойство басни станет для нас совершенно непонятным. Возьмем тот самый пример, которым пользуются и наши авторы. Вот басня, приписываемая Эзопу: «Говорят, обезьяны рождают по два детеныша; одного из них мать любит и лелеет, а другого ненавидит; первого она удушает своими объятиями, так что доживает до зрелого возраста только нелюбимый». Для того чтобы эта басня из естественноисторического рассказа превратилась в басню, необходимо рассказывать ее так: одна обезьяна родила двух детей, одного из них любила и т. д. Спрашивается, почему такое превращение сделает басню действительно басенной, что нового придадим мы этой басне при таком ее превращении? С точки зрения Потебни, «из этого рассказа про обезьяну следует непосредственно для меня то, что сказанное вообще про обезьяну должно быть сказано о каждой из них порознь. Нет никакого импульса, толчка мысли, чтобы перейти от обезьяны к чему-нибудь другому. А нам в басне именно это самое и нужно» (92, с. 31).
Между тем эта басня, рассказанная как единичный случай, естественно обращает нашу мысль на аналогию с человеческими родителями, которые часто любят своих собственных детей, заласкивая их сверх меры. По мнению Лессинга, при таком превращении из общего в единичный рассказ из параболы делается басня.
Рассмотрим, так ли это? Для Лессинга, следовательно, это превращение есть только превращение степени отчетливости и ясности рассказа; для Потебни оно есть превращение логического порядка. Между тем совершенно очевидно, что в поэтической басне то же самое свойство – единичность и краткость рассказа – имеет совершенно другой смысл и назначение: ближайший смысл этого свойства заключается в том, что оно придает всему поэтическому рассказу совершенно другую направленность, другое устремление внимания и гарантирует нам ту необходимую для эстетической реакции изоляцию от реальных раздражителей, о которых мы говорили уже выше. В самом деле, когда мне рассказывают общий рассказ про обезьян, моя мысль совершенно естественно направляется на действительность, и этот рассказ я сужу с точки зрения правды или неправды, обрабатывая его при помощи всего того интеллектуального аппарата, при помощи которого я усваиваю всякую новую мысль. Когда мне рассказывают про случай с одной обезьяной, у меня сразу получается другое направление восприятия, я изолирую этот случай из всего того, о чем идет речь, обычно я ставлю себя к этому случаю в отношения, делающие возможной эстетическую реакцию. Другой, более отдаленный смысл этой единичности заключается, конечно, в том, что, как мы видели, поэтический рассказ вообще стремится усилить плоть или тело басни, как говорил Лафонтен, за счет ее души и что, следовательно, он стремится подчеркнуть и усилить конкретность и действительность описываемого, потому что только при этом она приобретает над нами свое аффективное действие. Но эта действительность или конкретность басенного рассказа ни в какой мере не должна смешиваться с действительностью и обычном смысле этого слова. Это есть особая, чисто условная, так сказать, действительность добровольной галлюцинации, в которую ставит себя читатель.
Глава VI
«Тонкий яд» Синтез
Он тонкий разливал в своих твореньях яд.
Зерно лирики, эпоса и драмы в басне. Басни Крылова. Синтез басни. Аффективное противоречие как психологическая основа басни. Катастрофа басни.
Подведем итоги всему сказанному. Мы везде при рассмотрении каждого из элементов построения басни в отдельности вынуждены были вступить в противоречие с тем объяснением, которое давалось этим элементам в прежних теориях. Мы старались показать, что басня по историческому своему развитию и по психологической своей сущности разбилась на два совершенно различных жанра и что все рассуждения Лессинга всецело относятся к басне прозаической и потому его нападки на поэтическую басню как нельзя лучше указывают на те элементарные свойства поэзии, которые стала присваивать себе басня, как только она превратилась в поэтический жанр. Однако все это только разрозненные элементы, смысл и значение которых мы старались показать каждого порознь, но смысл которых в целом нам еще непонятен, как непонятно самое существо поэтической басни. Ее, конечно, нельзя вывести из ее элементов, поэтому нам необходимо от анализа обратиться к синтезу, исследовать несколько типических басен и уже из целого уяснить себе смысл отдельных частей. Мы опять встретимся все с теми же элементами, с которыми имели дело и прежде, но смысл и значение каждого из них уже будет определяться строем всей басни. В качестве предмета исследования мы остановились на баснях Крылова[34 - «…мы остановились на баснях Крылова…». – В дополнение к старой литературе о Крылове, указанной в книге Выготского, см.: Степанов П. Л. Крылов. Жизнь и творчество. М., 1949; Степанов Н. Л. Вступит, статья. – В кн.: Русская басня XVIII и начала XIX века. Л., 1951; Его же. Мастерство Крылова-баснописца. М, 1956.], синтетическому разбору которых и посвящена настоящая глава.
«ВОРОНА И ЛИСИЦА»
Водовозов указывает на то, что дети, читая эту басню, никак не могли согласиться с ее моралью (27, с. 72–73).
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
И в самом деле, эта мораль, которая идет от Эзопа, Федра, Лафонтена, в сущности говоря, совершенно не совпадает с тем басенным рассказом, которому она предпослана у Крылова. Мы с удивлением узнаем, что существуют сведения, по которым Крылов уподоблял сам себя этой лисице в своих отношениях к графу Хвостову, стихи которого он долго и терпеливо выслушивал, похваливал, а затем выпрашивал у довольного графа деньги взаймы (60, с. 19).
Верно или неверно это сообщение – совершенно безразлично. Достаточно того, что оно возможно. Уже из него следует, что едва ли басня действительно представляет действия лисицы как гнусные и вредные. Иначе едва ли кому-нибудь могла бы закрасться мысль, что Крылов себя уподобляет лисице. И в самом деле, стоит вчитаться в басню, чтобы увидеть, что искусство льстеца представлено в ней так игриво и остроумно; издевательство над вороной до такой степени откровенно и язвительно; ворона, наоборот, изображена такой глупой, что у читателя создается впечатление совершенно обратное тому, которое подготовила мораль[14 - Замечательно, что на подобные факты наталкивались и люди, смотрящие с противоположной точки зрения на басню. Ср. у В. Водовозова:Басня «Ворона и Лисица» изображает ловкость и изворотливость лисы, которая выманивает сыр у глупой вороны. Ее нравственная мысль – показать, как бывает наказан тот, кто поддается на льстивые слова, – урок очень практический и полезный пеопытным людям. Но, с другой стороны, искусство льстеца здесь представлено так игриво, что нисколько не видно гнусности лжи. Лисица чуть ли не была права, обманывая ворону, которой вся вина состоит в одной ее глупости: плутовка забавляет вас своею хитростью, и вы не чувствуете к ней ни малейшего презрения. Здесь смех, возбуждаемый глупой вороной, в ином случае был бы не совсем нравствен. Если над ней посмеется ребенок, сам наклонный ко лжи и лукавству, то цель басни вряд ли будет достигнута (с. 72–73).Басня «Тришкин кафтан» заключает на вид очень простой и забавный рассказ. Тришка обрезает рукава, чтобы залатать локти, обрезает фалды и полы, чтобы наставить рукава. Но если вы захотите объяснить как следует смысл этой басни, то вам придется обратиться к предметам, выходящим из крута детских понятий. Дитя скорей поймет, что Тришка был искусен в своем деле; применив же басню к детскому быту, мы лишим ее сатиры. (О педагогическом значении басен Крылова. – «Журн. Мин-ва народного просвещения», 1863, дек., с. 74).]. Он никак не может согласиться с тем, что лесть гнусна, вредна, басня скорей убеждает его или, вернее, заставляет его чувствовать так, что ворона наказана по заслугам, а лисица чрезвычайно остроумно проучила ее. Чему мы обязаны этой переменой смысла? Конечно, поэтическому рассказу, потому что, расскажи мы то же самое в прозе по рецепту Лессинга и не знай мы тех слов, которые приводила лисица, не сообщи нам автор, что у вороны от радости в зобу дыханье сперло, – и оценка нашего чувства была бы совершенно другая. Именно картиннось описания, характеристика действующих лиц, все то, что отвергали Лессинг и Потебня у басни, все это является тем механизмом, при помощи которого наше чувство судит не просто отвлеченно рассказанное ему событие с чисто моральной точки зрения, а подчиняется всему тому поэтическому внушению, которое исходит от тона каждого стиха, от каждой рифмы, от характера каждого слова. Уже перемена, которую допустил Сумароков, заменивший ворона прежних баснописцев вороной, уже эта небольшая перемена содействует совершенной перемене стиля, а между тем едва ли от перемены пола переменился существенно характер героя. Что теперь занимает наше чувство в этой басне – это совершенно явная противоположность тех двух направлений, в которых заставляет его развиваться рассказ. Наша мысль направлена сразу на то, что лесть гнусна, вредна, мы видим перед собой наибольшее воплощение льстеца, однако мы привыкли к тому, что льстит зависимый, льстит тот, кто побежден, кто выпрашивает, и одновременно с этим наше чувство направляется как раз в противоположную сторону: мы все время видим, что лисица по существу вовсе не льстит, издевается, что это она – господин положения, и каждое слово ее лести звучит для нас совершенно двойственно: и как лесть и как издевательство.
Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!..
Какие перушки! какой носок!
и т. д.
И вот на этой двойственности нашего восприятия все время играет басня. Эта двойственность все время поддерживает интерес и остроту басни, и мы можем сказать наверно, что, не будь ее, басня потеряла бы всю свою прелесть. Все остальные поэтические приемы, выбор слов и т. п., подчинены этой основной цели. Поэтому нас не трогает, когда Сумароков приводит слова лисицы в следующем виде:
И попугай ничто перед тобой, душа;
Прекраснее сто крат твои павлиньи перья
и т. д.
К этому надо еще прибавить то, что самая расстановка слов и самое описание поз и интонация героев только подчеркивают эту основную цель басни. Поэтому Крылов смело отбрасывает заключительную часть басни, которая состоит в том, что, убегая, лисица, говорит ворону: «О ворон, если бы ты еще обладал разумом».
Здесь одна из двух черт издевательства вдруг получает явный перевес. Борьба двух противоположных чувств прекращается, и басня кончается у Лафонтена, когда лисица, убегая, насмехается над вороном и замечает ему, что он глуп, когда верит льстецам. Ворон клянется впредь не верить льстецам. Опять одно из чувств получает слишком явный перевес, и басня пропадает.
Точно так же самая лесть лисицы представлена совсем не так, как у Крылова: «Как ты прекрасен. Каким ты мне кажешься красивым». И, передавая речь лисицы, Лафонтен пишет: «Лисица говорит приблизительно следующее». Все это настолько лишает басню того противочувствия, которое составляет основу ее эффекта, что она как поэтическое произведение перестает существовать.
«ВОЛК И ЯГНЕНОК»
Мы уже указали на то, что, начиная эту басню, Крылов с самого начала противопоставляет свою басню действительной истории. Таким образом, его мораль совершенно не совпадает с той, которая намечена в первом стихе: «У сильного всегда бессильный виноват».
Послушай, что случилося с Ягненком.
Поставь свою ты куклу в уголок:
Рассказ мой будет короток.
Или прежде:
Ужели не глядеть? Ужель не улыбаться?
Не то я говорю; но только всякий шаг
Вы свой должны обдумать так,
Чтоб было не к чему злословью и придраться.
Здесь совершенно явно басня рассказывается в приеме литературной маски, и, если взять ту мораль, которую автор выводит из своей басни, мы увидим, что она ни в малой степени не вытекает из самого рассказа и скорей служит шуточным дополнением к тону всего рассказа. Прибавим к этому, что, несмотря на трагическое содержание рассказа, он весь передан все же в явно комическом стиле и тоне. Таким образом, ни содержание рассказа, ни мораль его ни в малой степени не определяют характера обобщения, а оно, наоборот, показывает совершенно ясно свою роль – маски.
Или в другой басне Крылов говорит:
Вот, милый друг, тебе сравненье и урок:
Он и для взрослого хорош и для ребенка.
Ужли вся басня тут? – ты спросишь; погоди,
Нет, это только побасенка,
А басня будет впереди,
И к ней я наперед скажу нравоученье.
Вот вижу новое в глазах твоих сомненье:
Сначала краткости, теперь уж ты
Боишься длинноты.
Что ж делать, милый друг: возьми терпенье!
Я сам того ж боюсь.
Но как же быть? Теперь я старе становлюсь.
Погода к осени дождливей,
А люди к старости болтливей.
Опять явная игра с этим литературным приемом, явное указание на то, что басенный рассказ есть известная литературная условность стиля, тона, точки зрения, что показано здесь с необычайной ясностью. Последний элемент построения басни и теории Лессинга, или, вернее сказать, свойство ее рассказа, заключается в требовании, чтобы этот рассказ представлял собой единичный случай, а не общий рассказ. И на этом последнем элементе, как и на предыдущих трех, видна все та же двойственность обсуждаемого предмета. Он получает совершенно разное истолкование, возьмем ли мы поэтическую или прозаическую басни.
И Лессинг и Потебня выдвигают требование, чтобы рассказ в басне непременно относился к единичному и частному случаю. «Вспомните басню Нафана. Обратите внимание на то свойство, о котором я говорю: Нафан говорит: «один человек». Почему он не мог сказать «некоторые люди» или «все люди»? Если он действительно не мог этого сказать, по самому свойству басни, то этим будет доказано, что образ басни должен быть единичным» (92, с. 28).
Потебня совершенно ясно говорит, что для него затруднительно объяснить это требование и мотивировать его, потому что «здесь мы выходим из области рассматриваемого, то есть из области поэзии, и сталкиваемся с теми произведениями, которые называются прозою…» (92, с. 28).
Иначе говоря, причина этого требования заключается, по мнению Потебни, в некоторых свойствах нашей логической мысли, в том, что всякое обобщение наше ведет нас к частностям, в нем же заключенным, но не к частностям другого круга. Не более удовлетворительно объясняет этот случай и Лессинг. По его словам, знаменитый пример Аристотеля относительно избрания магистрата, подобно тому как владелец корабля стал бы по выбору назначать кормчего, только тем отличается от басни, что он представляет все дело, как если бы оно произошло, оно осознается как возможное, а здесь оно приобретает действительность, здесь это определенный, это тот владелец корабля: «В этом суть дела. Единичный случай, из которого состоит басня, должен быть представлен как действительный. Если бы я удовлетворялся только возможностью его, это был бы пример, парабола» (150, S. 39).
Суть басни, следовательно, заключается в том, что она должна быть рассказана как некий частный случаи. «Басня требует действительного случая, потому что в действительном случае мы можем лучше и отчетливее различить причины поступков, потому что действительность дает более живое доказательство, чем возможное» (150, S. 43). Необоснованность этого утверждения сама собой бросается в глаза. Никакой коренной, принципиальной разницы между единичным и всеобщим случаем здесь не оказывается, и мы можем положительна утверждать, что всякое общее естественнонаучное положение, рассказанное как басня, может служить прекрасным материалом для вывода из него известного морального положения. Еще больше не можем мы понять, почему басенному рассказу непременно должна принадлежать действительность и имеет ли в виду здесь басня действительность в точном смысле этого слова или же нет. Напротив того, мы можем легко показать в целом ряде случаев, что басня намечает как бы свою особую действительность и часто ссылается на то, что «так рассказывается в басне», и вообще басня описывает действительность случая не с большей реалистичностью, чем рассказ.
Не помню, у какой реки,
Злодеи царства водяного,
Приют имели рыбаки.
И очень часто автор ссылается на такую сказочность того происшествия, которое он собирается предложить вниманию читателя. Очень часто он прямо противопоставляет ее действительности:
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим.
Но мы Истории не пишем;
А вот о том, как в Баснях говорят…
Здесь прямо история басенная противопоставляется истории действительной, между тем в рассуждениях Лессинга и в рассуждениях Потебни заключена та несомненная фактическая правда, что в действительности басня всегда имеет дело именно с единичным случаем и притом случай этот бывает рассказан как действительный. Но они оказываются бессильными объяснить причину этого факта. Стоит только подойти к поэтической басне со всеми присущими ей особенностями искусства, как и этот элемент или свойство басни станет для нас совершенно непонятным. Возьмем тот самый пример, которым пользуются и наши авторы. Вот басня, приписываемая Эзопу: «Говорят, обезьяны рождают по два детеныша; одного из них мать любит и лелеет, а другого ненавидит; первого она удушает своими объятиями, так что доживает до зрелого возраста только нелюбимый». Для того чтобы эта басня из естественноисторического рассказа превратилась в басню, необходимо рассказывать ее так: одна обезьяна родила двух детей, одного из них любила и т. д. Спрашивается, почему такое превращение сделает басню действительно басенной, что нового придадим мы этой басне при таком ее превращении? С точки зрения Потебни, «из этого рассказа про обезьяну следует непосредственно для меня то, что сказанное вообще про обезьяну должно быть сказано о каждой из них порознь. Нет никакого импульса, толчка мысли, чтобы перейти от обезьяны к чему-нибудь другому. А нам в басне именно это самое и нужно» (92, с. 31).
Между тем эта басня, рассказанная как единичный случай, естественно обращает нашу мысль на аналогию с человеческими родителями, которые часто любят своих собственных детей, заласкивая их сверх меры. По мнению Лессинга, при таком превращении из общего в единичный рассказ из параболы делается басня.
Рассмотрим, так ли это? Для Лессинга, следовательно, это превращение есть только превращение степени отчетливости и ясности рассказа; для Потебни оно есть превращение логического порядка. Между тем совершенно очевидно, что в поэтической басне то же самое свойство – единичность и краткость рассказа – имеет совершенно другой смысл и назначение: ближайший смысл этого свойства заключается в том, что оно придает всему поэтическому рассказу совершенно другую направленность, другое устремление внимания и гарантирует нам ту необходимую для эстетической реакции изоляцию от реальных раздражителей, о которых мы говорили уже выше. В самом деле, когда мне рассказывают общий рассказ про обезьян, моя мысль совершенно естественно направляется на действительность, и этот рассказ я сужу с точки зрения правды или неправды, обрабатывая его при помощи всего того интеллектуального аппарата, при помощи которого я усваиваю всякую новую мысль. Когда мне рассказывают про случай с одной обезьяной, у меня сразу получается другое направление восприятия, я изолирую этот случай из всего того, о чем идет речь, обычно я ставлю себя к этому случаю в отношения, делающие возможной эстетическую реакцию. Другой, более отдаленный смысл этой единичности заключается, конечно, в том, что, как мы видели, поэтический рассказ вообще стремится усилить плоть или тело басни, как говорил Лафонтен, за счет ее души и что, следовательно, он стремится подчеркнуть и усилить конкретность и действительность описываемого, потому что только при этом она приобретает над нами свое аффективное действие. Но эта действительность или конкретность басенного рассказа ни в какой мере не должна смешиваться с действительностью и обычном смысле этого слова. Это есть особая, чисто условная, так сказать, действительность добровольной галлюцинации, в которую ставит себя читатель.
Глава VI
«Тонкий яд» Синтез
Он тонкий разливал в своих твореньях яд.
Зерно лирики, эпоса и драмы в басне. Басни Крылова. Синтез басни. Аффективное противоречие как психологическая основа басни. Катастрофа басни.
Подведем итоги всему сказанному. Мы везде при рассмотрении каждого из элементов построения басни в отдельности вынуждены были вступить в противоречие с тем объяснением, которое давалось этим элементам в прежних теориях. Мы старались показать, что басня по историческому своему развитию и по психологической своей сущности разбилась на два совершенно различных жанра и что все рассуждения Лессинга всецело относятся к басне прозаической и потому его нападки на поэтическую басню как нельзя лучше указывают на те элементарные свойства поэзии, которые стала присваивать себе басня, как только она превратилась в поэтический жанр. Однако все это только разрозненные элементы, смысл и значение которых мы старались показать каждого порознь, но смысл которых в целом нам еще непонятен, как непонятно самое существо поэтической басни. Ее, конечно, нельзя вывести из ее элементов, поэтому нам необходимо от анализа обратиться к синтезу, исследовать несколько типических басен и уже из целого уяснить себе смысл отдельных частей. Мы опять встретимся все с теми же элементами, с которыми имели дело и прежде, но смысл и значение каждого из них уже будет определяться строем всей басни. В качестве предмета исследования мы остановились на баснях Крылова[34 - «…мы остановились на баснях Крылова…». – В дополнение к старой литературе о Крылове, указанной в книге Выготского, см.: Степанов П. Л. Крылов. Жизнь и творчество. М., 1949; Степанов Н. Л. Вступит, статья. – В кн.: Русская басня XVIII и начала XIX века. Л., 1951; Его же. Мастерство Крылова-баснописца. М, 1956.], синтетическому разбору которых и посвящена настоящая глава.
«ВОРОНА И ЛИСИЦА»
Водовозов указывает на то, что дети, читая эту басню, никак не могли согласиться с ее моралью (27, с. 72–73).
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
И в самом деле, эта мораль, которая идет от Эзопа, Федра, Лафонтена, в сущности говоря, совершенно не совпадает с тем басенным рассказом, которому она предпослана у Крылова. Мы с удивлением узнаем, что существуют сведения, по которым Крылов уподоблял сам себя этой лисице в своих отношениях к графу Хвостову, стихи которого он долго и терпеливо выслушивал, похваливал, а затем выпрашивал у довольного графа деньги взаймы (60, с. 19).
Верно или неверно это сообщение – совершенно безразлично. Достаточно того, что оно возможно. Уже из него следует, что едва ли басня действительно представляет действия лисицы как гнусные и вредные. Иначе едва ли кому-нибудь могла бы закрасться мысль, что Крылов себя уподобляет лисице. И в самом деле, стоит вчитаться в басню, чтобы увидеть, что искусство льстеца представлено в ней так игриво и остроумно; издевательство над вороной до такой степени откровенно и язвительно; ворона, наоборот, изображена такой глупой, что у читателя создается впечатление совершенно обратное тому, которое подготовила мораль[14 - Замечательно, что на подобные факты наталкивались и люди, смотрящие с противоположной точки зрения на басню. Ср. у В. Водовозова:Басня «Ворона и Лисица» изображает ловкость и изворотливость лисы, которая выманивает сыр у глупой вороны. Ее нравственная мысль – показать, как бывает наказан тот, кто поддается на льстивые слова, – урок очень практический и полезный пеопытным людям. Но, с другой стороны, искусство льстеца здесь представлено так игриво, что нисколько не видно гнусности лжи. Лисица чуть ли не была права, обманывая ворону, которой вся вина состоит в одной ее глупости: плутовка забавляет вас своею хитростью, и вы не чувствуете к ней ни малейшего презрения. Здесь смех, возбуждаемый глупой вороной, в ином случае был бы не совсем нравствен. Если над ней посмеется ребенок, сам наклонный ко лжи и лукавству, то цель басни вряд ли будет достигнута (с. 72–73).Басня «Тришкин кафтан» заключает на вид очень простой и забавный рассказ. Тришка обрезает рукава, чтобы залатать локти, обрезает фалды и полы, чтобы наставить рукава. Но если вы захотите объяснить как следует смысл этой басни, то вам придется обратиться к предметам, выходящим из крута детских понятий. Дитя скорей поймет, что Тришка был искусен в своем деле; применив же басню к детскому быту, мы лишим ее сатиры. (О педагогическом значении басен Крылова. – «Журн. Мин-ва народного просвещения», 1863, дек., с. 74).]. Он никак не может согласиться с тем, что лесть гнусна, вредна, басня скорей убеждает его или, вернее, заставляет его чувствовать так, что ворона наказана по заслугам, а лисица чрезвычайно остроумно проучила ее. Чему мы обязаны этой переменой смысла? Конечно, поэтическому рассказу, потому что, расскажи мы то же самое в прозе по рецепту Лессинга и не знай мы тех слов, которые приводила лисица, не сообщи нам автор, что у вороны от радости в зобу дыханье сперло, – и оценка нашего чувства была бы совершенно другая. Именно картиннось описания, характеристика действующих лиц, все то, что отвергали Лессинг и Потебня у басни, все это является тем механизмом, при помощи которого наше чувство судит не просто отвлеченно рассказанное ему событие с чисто моральной точки зрения, а подчиняется всему тому поэтическому внушению, которое исходит от тона каждого стиха, от каждой рифмы, от характера каждого слова. Уже перемена, которую допустил Сумароков, заменивший ворона прежних баснописцев вороной, уже эта небольшая перемена содействует совершенной перемене стиля, а между тем едва ли от перемены пола переменился существенно характер героя. Что теперь занимает наше чувство в этой басне – это совершенно явная противоположность тех двух направлений, в которых заставляет его развиваться рассказ. Наша мысль направлена сразу на то, что лесть гнусна, вредна, мы видим перед собой наибольшее воплощение льстеца, однако мы привыкли к тому, что льстит зависимый, льстит тот, кто побежден, кто выпрашивает, и одновременно с этим наше чувство направляется как раз в противоположную сторону: мы все время видим, что лисица по существу вовсе не льстит, издевается, что это она – господин положения, и каждое слово ее лести звучит для нас совершенно двойственно: и как лесть и как издевательство.
Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!..
Какие перушки! какой носок!
и т. д.
И вот на этой двойственности нашего восприятия все время играет басня. Эта двойственность все время поддерживает интерес и остроту басни, и мы можем сказать наверно, что, не будь ее, басня потеряла бы всю свою прелесть. Все остальные поэтические приемы, выбор слов и т. п., подчинены этой основной цели. Поэтому нас не трогает, когда Сумароков приводит слова лисицы в следующем виде:
И попугай ничто перед тобой, душа;
Прекраснее сто крат твои павлиньи перья
и т. д.
К этому надо еще прибавить то, что самая расстановка слов и самое описание поз и интонация героев только подчеркивают эту основную цель басни. Поэтому Крылов смело отбрасывает заключительную часть басни, которая состоит в том, что, убегая, лисица, говорит ворону: «О ворон, если бы ты еще обладал разумом».
Здесь одна из двух черт издевательства вдруг получает явный перевес. Борьба двух противоположных чувств прекращается, и басня кончается у Лафонтена, когда лисица, убегая, насмехается над вороном и замечает ему, что он глуп, когда верит льстецам. Ворон клянется впредь не верить льстецам. Опять одно из чувств получает слишком явный перевес, и басня пропадает.
Точно так же самая лесть лисицы представлена совсем не так, как у Крылова: «Как ты прекрасен. Каким ты мне кажешься красивым». И, передавая речь лисицы, Лафонтен пишет: «Лисица говорит приблизительно следующее». Все это настолько лишает басню того противочувствия, которое составляет основу ее эффекта, что она как поэтическое произведение перестает существовать.
«ВОЛК И ЯГНЕНОК»
Мы уже указали на то, что, начиная эту басню, Крылов с самого начала противопоставляет свою басню действительной истории. Таким образом, его мораль совершенно не совпадает с той, которая намечена в первом стихе: «У сильного всегда бессильный виноват».