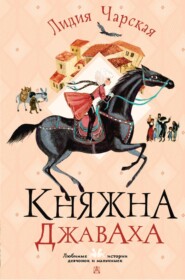По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Записки институтки. Честный рассказ о самой себе
Автор
Жанр
Год написания книги
1911
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Отчего же ты не созналась сразу, в классе?
Я молчала, мучительно краснея.
– Стыдись! Только что поступила, и уже совершаешь такие непростительные шалости. Зачем ты принесла в класс птицу? – грозно напустилась она на меня.
– Она была такая исщипанная, в крови, мне было жалко, и я принесла.
Боязнь за Нину придала мне храбрости, и я говорила без запинки.
– Ты должна была сказать m-lle Арно или дежурной пепиньерке, ворону бы убрали на задний двор, а не распоряжаться самой, да еще прятаться за спиной класса… Скверно, достойно уличного мальчишки, а не благовоспитанной барышни! Ты будешь наказана. Сними свой передник и отправляйся стоять в столовой во время завтрака, – уже совсем строго закончила инспектриса.
Я замерла. Стоять в столовой без передника считалось в институте самым сильным наказанием.
Это было уже слишком. На глазах моих навернулись слезы. «Попрошу прощения, может быть, смягчится», – подумала я.
«Нет, нет, – в ту же минуту молнией мелькнуло в моей голове, – ведь я терплю за Нину и, может быть, этим поступком верну если не дружбу ее, то, по крайней мере, расположение».
И, стойко удержавшись от слез, я быстро сняла передник, сделала классной даме условный поклон и вышла из комнаты.
Мое появление без передника в столовой произвело переполох.
Младшие повскакали с мест, старшие поворачивали головы, с насмешкой и сожалением поглядывая на меня.
Я храбро подошла к m-lle Арно и заявила ей, что я наказана инспектрисой. Но за что я наказана, я не объяснила. Затем я встала на середину столовой. Мне было невыразимо совестно и в то же время сладко. Лицо мое горело, как в огне. Я не поднимала глаз, боясь снова встретить насмешливые улыбки.
«Если б они знали, если б только знали, за что я терплю эту муку! – вся замирая от сладкого трепета, говорила я себе. – Милая, милая княжна, чувствуешь ли ты, как страдает твоя маленькая Люда?»
Наши «седьмушки», видимо, взволновались. Не зная, за что я наказана, они строили тысячу предположений, догадок и то и дело оборачивались ко мне.
Я подняла голову. Мой взгляд встретился с Ниной. Я не знаю, что выражали мои глаза, но в черных милых глазках Джавахи светилось столько глубокого сочувствия и нежной ласки, что всю меня точно варом обдало.
«Ты жалеешь меня, милая девочка», – шептала я восторженно, и, стряхнув с себя ложный, как мне казалось, стыд, я подняла голову и окинула всю столовую долгим, торжествующим взглядом.
Но меня не поняли, да и не могли понять эти беспечные, веселые девочки.
– Смотрите-ка, mesdames наказана, да еще и смотрит победоносно, точно подвиг совершила, – заметил кто-то с ближайшего стола пятиклассниц.
В ответ я только равнодушно пожала плечами.
Лицо мое между тем горело все больше и больше и стало красным, как кумач. У меня сделался жар – неизменный спутник всех моих потрясений.
М-lle Арно со своего места обратила внимание на мои пылающие щеки, на неестественно ярко разгоревшиеся глаза и, оставив свое место, подошла ко мне.
– Тебе нехорошо?
Я отрицательно покачала головой, но она, приложив руку к моей пылающей щеке, воскликнула:
– Но ты больна, ты вся горишь! – и, подхватив меня под руку, поспешно вывела из столовой мимо еще более недоумевающих институток.
Пытка закончилась.
Меня отвели в лазарет.
Глава XII. В лазарете. Примирение
Лазарет начинался тотчас за квартирой начальницы. Это было большое помещение с просторными палатами, полными воздуха и света. Этот свет исходил, казалось, от самих чисто выбеленных стен лазарета. Вход в него был через темный коридорчик, примыкавший к нижнему длинному и мрачному коридору. Первая комната называлась «перевязочная», сюда два раза в день, по лазаретному звонку, собирались «слабенькие», то есть те, которым прописано было принимать железо, мышьяк, кефир и рыбий жир. Заведовали перевязочной две фельдшерицы: одна – кругленькая, беленькая, молодая девушка, Вера Васильевна, прозванная Пышкой, а другая – Мирра Андреевна, или Жучка по прозвищу, раздражительная и взыскательная старая дева. Насколько Пышка была любима институтками, настолько презираема Жучка. В дежурство Пышки девочки пользовались иногда вкусной «шипучкой» (смесь соды с кислотою) или беленькими мятными лепешками…
– Меня тошнит, Вера Васильевна, – говорит какая-нибудь шалунья и прижимает для большей верности платок к губам.
И Пышка открывает шкап, достает оттуда коробку кислоты и соды и делает шипучку.
– Мне бы мятных лепешек от тошноты, – тянет другая.
– А не хотите ли касторового масла? – добродушно напускается Вера Васильевна и сама смеется.
Пропишет ли доктор кому-либо злополучную касторку в дежурство Веры Васильевны, она дает это противное масло в немного горьковатом портвейне и тем же вином предлагает запить, между тем как в дежурство Жучки касторка давалась в мяте, что составляло страшную неприятность для девочек.
Из перевязочной вели две двери: одна – в комнату лазаретной надзирательницы, а другая – в лазаретную столовую. В столовой стоял длинный стол для выздоравливающих, а по стенам расставлены были шкапы с разными медицинскими препаратами и бельем.
Из столовой шли двери в следующие палаты и маленькую комнату Жучки.
Палат было, не считая маленькой, предназначенной для больных классных дам, еще две большие и третья, маленькая, для труднобольных. Около последней помещалась Пышка. Затем шли умывальня с кранами и ванной и кухня, где за перегородкой помещалась Матенька.
Матенька была не совсем обыкновенным существом нашего лазарета. Старая-старенькая ворчунья, нечто вроде сиделки и кастелянши, она, несмотря на свои 78 лет, бодро управляла своим маленьким хозяйством.
– Матенька, – кричит Вера Васильевна, – лихорадочную привели, пожалуйста, дайте липки.
И липка, то есть раствор липового цвета, поспевает в две-три минуты по щучьему велению.
– Матенька, помогите забинтовать больную. – И Матенька забинтовывает быстро и ловко.
И откуда силы брались у этой славной седенькой старушки?!
Ворчлива Матенька была ужасно, но и ворчание ее было добродушное, безвредное: сейчас побранит, сейчас же прояснится улыбкой.
– Матенька, – увивается около нее какая-нибудь больная, – поджарьте булочку, родная.
– Ну вот что выдумала, шалунья, чтобы от Марьи Антоновны попало! Не выдумывайте лучше!
А через полчаса, смотришь, на лазаретном ночном столике, подле кружки с чаем, лежит аппетитно подрумяненная в горячей золе булочка. Придется серьезно заболеть институтке, Матенька ночи напролет просиживает у постели больной, дни не отходит от нее, а случится несчастье, смерть, она и глаза закроет, и обмоет, и псалтырь почитает над усопшей.
Такова была обстановка лазарета, мало, впрочем, меня интересовавшая.
M-lle Арно дорогой старалась проникнуть в мою душу – и узнать, почему я наказана, но я упорно молчала. Настаивать же она не решалась, так как мои пышущие от жара щеки и неестественно блестящие глаза пугали ее.
– Что с девочкой? – спросила Вера Васильевна, когда мы пришли в перевязочную.
Вид части коридора в здании Павловского женского института
Я молчала, мучительно краснея.
– Стыдись! Только что поступила, и уже совершаешь такие непростительные шалости. Зачем ты принесла в класс птицу? – грозно напустилась она на меня.
– Она была такая исщипанная, в крови, мне было жалко, и я принесла.
Боязнь за Нину придала мне храбрости, и я говорила без запинки.
– Ты должна была сказать m-lle Арно или дежурной пепиньерке, ворону бы убрали на задний двор, а не распоряжаться самой, да еще прятаться за спиной класса… Скверно, достойно уличного мальчишки, а не благовоспитанной барышни! Ты будешь наказана. Сними свой передник и отправляйся стоять в столовой во время завтрака, – уже совсем строго закончила инспектриса.
Я замерла. Стоять в столовой без передника считалось в институте самым сильным наказанием.
Это было уже слишком. На глазах моих навернулись слезы. «Попрошу прощения, может быть, смягчится», – подумала я.
«Нет, нет, – в ту же минуту молнией мелькнуло в моей голове, – ведь я терплю за Нину и, может быть, этим поступком верну если не дружбу ее, то, по крайней мере, расположение».
И, стойко удержавшись от слез, я быстро сняла передник, сделала классной даме условный поклон и вышла из комнаты.
Мое появление без передника в столовой произвело переполох.
Младшие повскакали с мест, старшие поворачивали головы, с насмешкой и сожалением поглядывая на меня.
Я храбро подошла к m-lle Арно и заявила ей, что я наказана инспектрисой. Но за что я наказана, я не объяснила. Затем я встала на середину столовой. Мне было невыразимо совестно и в то же время сладко. Лицо мое горело, как в огне. Я не поднимала глаз, боясь снова встретить насмешливые улыбки.
«Если б они знали, если б только знали, за что я терплю эту муку! – вся замирая от сладкого трепета, говорила я себе. – Милая, милая княжна, чувствуешь ли ты, как страдает твоя маленькая Люда?»
Наши «седьмушки», видимо, взволновались. Не зная, за что я наказана, они строили тысячу предположений, догадок и то и дело оборачивались ко мне.
Я подняла голову. Мой взгляд встретился с Ниной. Я не знаю, что выражали мои глаза, но в черных милых глазках Джавахи светилось столько глубокого сочувствия и нежной ласки, что всю меня точно варом обдало.
«Ты жалеешь меня, милая девочка», – шептала я восторженно, и, стряхнув с себя ложный, как мне казалось, стыд, я подняла голову и окинула всю столовую долгим, торжествующим взглядом.
Но меня не поняли, да и не могли понять эти беспечные, веселые девочки.
– Смотрите-ка, mesdames наказана, да еще и смотрит победоносно, точно подвиг совершила, – заметил кто-то с ближайшего стола пятиклассниц.
В ответ я только равнодушно пожала плечами.
Лицо мое между тем горело все больше и больше и стало красным, как кумач. У меня сделался жар – неизменный спутник всех моих потрясений.
М-lle Арно со своего места обратила внимание на мои пылающие щеки, на неестественно ярко разгоревшиеся глаза и, оставив свое место, подошла ко мне.
– Тебе нехорошо?
Я отрицательно покачала головой, но она, приложив руку к моей пылающей щеке, воскликнула:
– Но ты больна, ты вся горишь! – и, подхватив меня под руку, поспешно вывела из столовой мимо еще более недоумевающих институток.
Пытка закончилась.
Меня отвели в лазарет.
Глава XII. В лазарете. Примирение
Лазарет начинался тотчас за квартирой начальницы. Это было большое помещение с просторными палатами, полными воздуха и света. Этот свет исходил, казалось, от самих чисто выбеленных стен лазарета. Вход в него был через темный коридорчик, примыкавший к нижнему длинному и мрачному коридору. Первая комната называлась «перевязочная», сюда два раза в день, по лазаретному звонку, собирались «слабенькие», то есть те, которым прописано было принимать железо, мышьяк, кефир и рыбий жир. Заведовали перевязочной две фельдшерицы: одна – кругленькая, беленькая, молодая девушка, Вера Васильевна, прозванная Пышкой, а другая – Мирра Андреевна, или Жучка по прозвищу, раздражительная и взыскательная старая дева. Насколько Пышка была любима институтками, настолько презираема Жучка. В дежурство Пышки девочки пользовались иногда вкусной «шипучкой» (смесь соды с кислотою) или беленькими мятными лепешками…
– Меня тошнит, Вера Васильевна, – говорит какая-нибудь шалунья и прижимает для большей верности платок к губам.
И Пышка открывает шкап, достает оттуда коробку кислоты и соды и делает шипучку.
– Мне бы мятных лепешек от тошноты, – тянет другая.
– А не хотите ли касторового масла? – добродушно напускается Вера Васильевна и сама смеется.
Пропишет ли доктор кому-либо злополучную касторку в дежурство Веры Васильевны, она дает это противное масло в немного горьковатом портвейне и тем же вином предлагает запить, между тем как в дежурство Жучки касторка давалась в мяте, что составляло страшную неприятность для девочек.
Из перевязочной вели две двери: одна – в комнату лазаретной надзирательницы, а другая – в лазаретную столовую. В столовой стоял длинный стол для выздоравливающих, а по стенам расставлены были шкапы с разными медицинскими препаратами и бельем.
Из столовой шли двери в следующие палаты и маленькую комнату Жучки.
Палат было, не считая маленькой, предназначенной для больных классных дам, еще две большие и третья, маленькая, для труднобольных. Около последней помещалась Пышка. Затем шли умывальня с кранами и ванной и кухня, где за перегородкой помещалась Матенька.
Матенька была не совсем обыкновенным существом нашего лазарета. Старая-старенькая ворчунья, нечто вроде сиделки и кастелянши, она, несмотря на свои 78 лет, бодро управляла своим маленьким хозяйством.
– Матенька, – кричит Вера Васильевна, – лихорадочную привели, пожалуйста, дайте липки.
И липка, то есть раствор липового цвета, поспевает в две-три минуты по щучьему велению.
– Матенька, помогите забинтовать больную. – И Матенька забинтовывает быстро и ловко.
И откуда силы брались у этой славной седенькой старушки?!
Ворчлива Матенька была ужасно, но и ворчание ее было добродушное, безвредное: сейчас побранит, сейчас же прояснится улыбкой.
– Матенька, – увивается около нее какая-нибудь больная, – поджарьте булочку, родная.
– Ну вот что выдумала, шалунья, чтобы от Марьи Антоновны попало! Не выдумывайте лучше!
А через полчаса, смотришь, на лазаретном ночном столике, подле кружки с чаем, лежит аппетитно подрумяненная в горячей золе булочка. Придется серьезно заболеть институтке, Матенька ночи напролет просиживает у постели больной, дни не отходит от нее, а случится несчастье, смерть, она и глаза закроет, и обмоет, и псалтырь почитает над усопшей.
Такова была обстановка лазарета, мало, впрочем, меня интересовавшая.
M-lle Арно дорогой старалась проникнуть в мою душу – и узнать, почему я наказана, но я упорно молчала. Настаивать же она не решалась, так как мои пышущие от жара щеки и неестественно блестящие глаза пугали ее.
– Что с девочкой? – спросила Вера Васильевна, когда мы пришли в перевязочную.
Вид части коридора в здании Павловского женского института