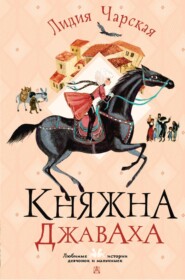По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Люда Влассовская
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это ваш рисунок? – указала она на почти доконченную голову сатира, лежавшую перед Марусей.
– Мой! – резко отвечала Краснушка, и глаза ее с вызывающим выражением остановились на новенькой.
– Недурно, – похвалила та, – а только нос несколько крив и глаз один больше другого. Разве вы не видите сами?
Краснушка вспыхнула. Она считалась одною из лучших учениц у Львова и очень гордилась своей способностью к рисованию. И вдруг эта Бог знает откуда явившаяся новенькая открыто уличала ее рисунок в неправильности перед лицом всего класса!
Маруся была страшно самолюбива и горда. Она сердито захлопнула свой альбом и, дерзко уставившись в лицо новенькой загоревшимися глазами, проговорила резко:
– Я не нуждаюсь в указаниях. Мне их сделает учитель.
– Напрасно, – произнесла, улыбаясь своей тонкой улыбкой, Нора, – право, напрасно, mademoiselle… – она помедлила слегка, чтобы кто-нибудь из нас подсказал ей фамилию Краснушки, и, не дождавшись такой любезности, продолжала: – Я несколько сведуща в этом деле и могла бы быть вам полезной…
– А я говорю вам, что я не нуждаюсь в ваших уроках и прошу меня оставить в покое!
Лицо Краснушки мгновенно побледнело, как это всегда с ней бывало в минуты волнения и гнева. Нора не смутилась ни на секунду. Она чуть заметно пожала своими тонкими плечиками и произнесла, обращаясь ко всем нам:
– Какое несчастье, что в учебных заведениях России так мало уделяют внимания светскому воспитанию, – и затем, повернувшись ко мне, живо проговорила с любезной улыбкой: – Я ждала вас все время, отчего вы не пришли ко мне?
Я находилась в затруднительном положении, не зная, что отвечать.
– Ее не пускала Краснушка, – неожиданно выпалила Милка, всегда выскакивавшая невпопад.
Новенькая так и залилась своим серебристым смехом, делавшим ее прелестной.
– Как? Эта сердитая рыженькая художница не пускала вас ко мне? Но… ma belle, неужели у вас нет собственной воли?
Я смутилась. Не могла же я ей раскрыть мою душу в первый же час моего знакомства и признаться в том, что рыженькая художница – моя милая Маруся, самое дорогое, самое близкое для меня существо в институтских стенах, ради спокойствия которой я готова выносить все ее маленькие требования и капризы.
Вероятно, лицо мое было очень растерянно и глупо, потому что Нора снова рассмеялась и, взяв меня за руку, проговорила:
– Ну-ну, это не мое дело! Лучше познакомьте меня с вашими подругами. Вы слышали, о чем просила моя сестра Ирэн? Chaperonnez-moi donc, ma mignonne![19 - Возьмите же меня под свое покровительство, милочка!]
Я должна была исполнить ее желание и перезнакомила ее со всем классом. «Наши» смотрели на Нору Трахтенберг как на какое-то совсем особенное существо… Она резко отличалась от всех этих милых, простеньких девочек, гладко причесанных по институтскому правилу, в не совсем свежих передниках и со следами черных клякс на пальцах.
Новенькая была безукоризненно изящна и грациозна. Каждое движение ее было законченно и картинно. Мы не могли не заметить этого и не признать в ней отлично воспитанной великосветской барышни из вполне аристократического дома и невольно конфузились перед нею за наши грязные передники и выпачканные в чернилах пальцы.
Одна неугомонная Маруся не хотела «признать» новенькой. Лишь только прозвучал звонок, возвещавший начало следующего урока, и я вернулась на мое место, Краснушка приблизила ко мне почти вплотную побледневшее от гнева лицо и прошептала, задыхаясь от слез и злости:
– Если ты будешь говорить с нею, гулять в перемену или слушать ее хвастливое вранье, я тебе не друг больше, слышишь ли, не друг, Люда!
Я поспешила ее успокоить лаской и обещаниями исполнить ее просьбу.
Маруся успокоилась так же быстро, как и взволновалась, и только не отпускала меня от себя ни на минуту, боясь, чтобы Нора не завладела мною. В тот же вечер, в кругу трех-четырех из почитательниц ее таланта, Краснушка читала свою поэму, написанную во время урока истории под крышкой пюпитра. Поэма называлась «Скандинавская дева», и в ней безжалостно осмеивалась вновь поступившая Нора Трахтенберг.
ГЛАВА XI
Великолепная Нора. Гадюка. Заговор
Новенькую одели в зеленое камлотовое платье, белый фартук и пелеринку. Только белокурые косы ее остались висеть вдоль спины. Новенькая страдала мигренями, и волосы, уложенные жгутом на затылке, как это требовалось по форме, могли отяготить ее прелестную головку, потому ей, в виде исключения, разрешили носить косы.
В зеленом платье, безобразившем обыкновенно всех прочих институток, красота новенькой выступала еще рельефнее. Особенно нравились ее глаза под темными ресницами, всегда слегка прищуренные, насмешливые и вызывающие. Да не одни только глаза: вся она была как-то необыкновенно красива – куда лучше Вали Лер, «саксонской куколки», и Медеи – Вольской.
Класс как-то странно относился к Норе. Никто не задевал, не затрагивал ее. Все давали ей почтительно дорогу, как бы сознавая ее превосходство; при ее появлении смолкали беззаботные институтские речи: глупые шутки, наивные выдумки и остроты – все это не имело места в обществе Норы. Ее стеснялись, как посторонней. Чуткие девочки понимали, что эта красивая, бледная аристократка, поступившая на один год, чтобы усовершенствоваться в русском языке, не могла иметь ничего общего с детьми средних русских семей, преимущественно сирот, дочерей офицеров и служащих в военном ведомстве. Даже Анна Вольская, гордая, не признающая ничьего превосходства, стушевалась как-то со времени поступления новенькой и сошла «на нет», как про нее с горечью говорила ее подруга Лер.
Даже Миля Корбина не смела открыто боготворить Нору и поклонялась ей втайне, точно подавленная ее превосходством над всеми. Одна Краснушка не желала, по-видимому, «признавать» совершенства Норы. Она открыто вела с нею нескончаемую войну, задевая ее ежеминутно, стараясь изо всех сил уронить достоинство новенькой и сравнять ее со всеми прочими институтками. Но Нора, казалось, и не замечала даже усилий Маруси. С великолепным спокойствием отмалчивалась она на все колкости и задирания Краснушки, и только привычная тонкая усмешка морщила по временам ее гордые губы. Когда же выходки Запольской превышали всякую меру терпения, Нора спокойно поднимала глаза от книги (она по большей части читала во время рекреаций английские романы, которые были нам недоступны по причине незнания языка) и, лукаво сощуриваясь, говорила безо всякой злости по адресу Запольской:
– Юпитер, ты сердишься – значит, ты не прав! – И этим еще больше выводила ту из себя.
Досадно было и то Марусе, что молодая Трахтенберг была отлично и разносторонне подготовлена по всем предметам. Учителя были в восторге от ее познаний. Особенно француз Torneur слушал декламацию Норы и читал ее сочинения с особенным восторгом.
– Mademoiselle Трахтенберг, – говорил он, обращаясь к Арно, сочувственно кивавшей ему головою, – великолепно читает.
Только двое из учителей не признавали Норы: это Терпимов, все еще не разучившийся краснеть со дня своего поступления, да батюшка, любивший все ласковое, простенькое и податливое в своих девочках, чего именно и недоставало Норе.
Как лютеранка, Трахтенберг не училась у отца Филимона. К ней ходил пастор два раза в неделю, но она присутствовала на наших уроках и, глядя пристально своими сощуренными глазами прямо в лицо священника, не пропускала, казалось, ни одного его слова. Зато, когда, по свойственной ему привычке, батюшка положил как-то ей на голову свою большую руку, Нора осторожно высвободила из-под рукава синей шелковой рясы свою красивую головку и, нисколько не смущаясь, отодвинулась в дальний угол скамейки, приглаживая чуть-чуть спутавшиеся под рукой батюшки волосы. Отец Филимон пристально посмотрел на девочку и уже больше никогда не гладил ее по голове.
С русским учителем у Норы вышло очень курьезное приключение.
Нора очень плохо объяснялась по-русски. Терпимов, уже несколько привыкший и ориентировавшийся в классе выпускных, вызвал как-то Нору к доске и задал ей классное сочинение на тему: «Человек как перл творения».
Нора долго стояла и думала у доски… Наконец смело взяла мелок и написала следующее:
«Животность человека дольше продолжается, нежели животность зверей, птиц, рыб, комарей и прочих гадостей».
Не успела она поставить точку, как весь класс дружно прыснул со смеху. Терпимов поднял глаза на доску и тоже рассмеялся, прикрывая рот рукой и мучительно краснея.
– Mademoiselle Запольская, – произнес он, немного успокоившись, – исправьте неточности в выражении mademoiselle Трахтенберг.
Краснушка злобно торжествовала, радуясь унижению врага. Она гордо вышла к доске и, зачеркнув фразу Норы, написала внизу: «Жизнь человека продолжается дольше жизни зверей, птиц, рыб, комаров и прочих насекомых».
– Ах, если б это было по-французски, я бы сумела написать, – заметила Нора с искренним сожалением о своем невежестве. На торжествующую Краснушку она даже и не взглянула.
Терпимов, несмотря на свою природную застенчивость, привыкал к классу с каждым уроком все больше и больше. Он преспокойно уже наставил ученицам несколько шестерок за неудачные ответы, ни на йоту не повышая при этом голоса и ничем не выражая своего беспокойства. Он был далеко не тем незначительным, добрым и безобидным существом, каким мы его сочли в день его поступления к нам. Прозвище Дон-Кихота теперь мало подходило к нему, и мы не долго думая переименовали его в Гадюку.
Действительно, Терпимов отчасти и оправдывал это название.
Он был хитер, лукав, пронырлив и до крайности застенчив при всем этом. Открытого натиска со стороны преподавателя институтки никогда не боялись. Напротив, дядю Гри-Гри мы особенно ценили за то, что он делал сбавки, прибавки под «злую руку», «с плеча», как говорится. Приготовив у него урок, воспитанница могла смело рассчитывать, что старое забудется и она получит желанную прибавку.
Терпимов не то. Начать с того, что он по входе в класс незаметно из-под руки, прикрывавшей его подслеповатые глаза, оглядывал с добрых пять минут девочек и, надо отдать ему справедливость, проявлял при этом удивительное чутье, так как сразу угадывал, кто не знает урока, и вызывал незнающих в первую же голову. Девочки, разумеется, попадались и получали единицы. Потом, к концу урока, поставив достаточное количество плохих отметок, Терпимов, как бы желая загладить впечатление, вызывал лучших учениц, дававших бойкие ответы. Особенно благоволил он к Крошке, обожавшей его и сумевшей подделаться под его требования.
– Вот это простота! Это гармония! – говорил, слушая ее декламацию, учитель, и Крошка рдела как пион от удовольствия.
Меня он терпеть не мог, несмотря на то что я училась у него не хуже, чем у других преподавателей.
– Это он тебе за Чуловского вымещает, – поясняла мне Маруся. – Он терпеть не может Чуловского и злится за все, что его напоминает: ты, Людочка, читаешь так, как учил Чуловский.
Не знаю, за то ли ненавидел меня Терпимов или за другое, но больше 10 баллов, несмотря на отличный ответ, он мне не ставил никогда.