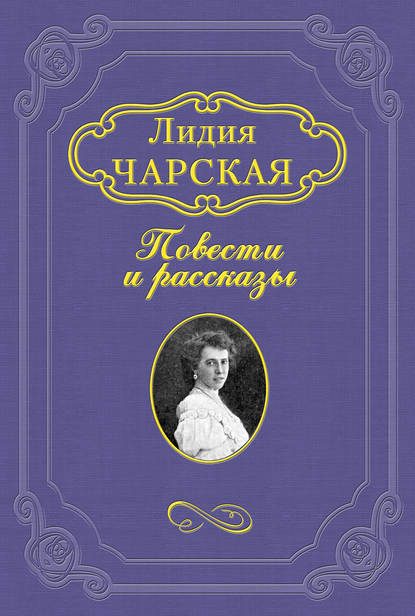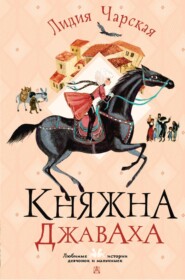По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Желанный царь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Настюша… родимая… видел я… сам видел, как князь Никита замертво упал с конем под ударом вражьим…
И Михаил прижался кудрявой головою к плечу инокини.
Бледная рука молодой монахини ниже надвинула на глаза иноческую повязку, и чуть слышно произнес покорный, смиренный голос:
– Господь ведает лучше нас в добре и в лихе… И да будет Его святая воля над всеми нами во веки веков.
– Аминь! – произнес такой же смиренный голос другой инокини, старицы Марфы.
Следствия победы над гетманом Ходкевичем не замедлили отозваться на судьбе осажденных. Отнятые ополченцами Пожарского у поляков хлебные и другие запасы вырвали последнюю надежду на пропитание у кремлевских осажденных.
Призрак начинавшегося еще до этого голода теперь разрастался до величины огромного несчастья. Поляки зверями смотрели на богатых бояр, хотя пан Гонсевский всеми силами удерживал их от грабежа.
В то время в Грановитой палате сторонники Сигизмунда писали новые грамоты польскому королю, торопя его прислать королевича Владислава на царство. Но русское ополчение сторожило осажденный Кремль, и только от разбитого Ходкевича польский король узнал о полном поражении и бегстве его полков.
Глава VI
Снова на дворе октябрь, но не радостно-ясный и румяный по-прошлогоднему… Непрерывные дожди обратили в болота московские улицы, площади и крестцы… То к дело с утра до вечера моросит нудный, неприятный осенний дождик. Солнце не выглядывает целыми неделями из-за облаков. Хмурая и тяжелая картина разрушенной пожарами Москвы кажется еще печальнее в эти пасмурные дни. Но в осаждающих Кремль дружинах царит бодрое и светлое настроение… Еще немного терпения, одна, другая неделя, и замученные голодом и болезнями поляки должны будут сдаться поневоле.
Несколько дней тому назад казаки приступом взяли Китай-город. В самый Кремль был послан гонец с грамотою от князя Пожарского. «Полковникам и всему рыцарству, немцам, черкасам и гайдукам, которые сидят в Кремле» – так начиналась эта грамота, наполненная убеждениями прекратить напрасную распрю, сдаться, открыть ворота Кремля. «Этим, – говорилось дальше в грамоте, – сбережете ваши головы в целости. Присылайте к нам, не мешкая, а я возьму на свою душу и всех ратных людей за вас упрошу, которые из вас захотят в свою землю, тех отпустим без всякой зацепки, а которые захотят служить московскому государю, тех пожалуем по достоинству».
Так заканчивалась грамота главного воеводы.
Народ, только что отслушав обедню, выходил из Успенского собора, когда несколько гайдуков появилось на паперти храма, сзывая толпу на Красную площадь Кремля.
Горсть неволею запертых в кремлевской осаде вместе с ляхами московичей, похожих скорее на тени, нежели на живых людей, от голода и перенесенных лишений, в страхе ринулась, подгоняемая окружавшими жолнерами, к Лобному месту. По большей части это были холопы, челядинцы бояр, кремлевских сидельцев, отсиживавшие со своими господами осаду.
На площади кричали поляки, слышна была всюду быстрая польская речь.
С Лобного места читалась присланная грамота.
Едва только думский дьяк закончил чтение ее и сошел с Лобного места, невообразимый шум поднялся в толпе.
Польские ротмистры и полковники заносчиво кричали, что они скорее взорвут Кремль, нежели откроют ворота и сдадутся лапотникам, земскому ополчению. Ведь им досконально известно, что сам его величество король Сигизмунд спешит на выручку осажденному в Кремле отряду.
Высокий, черноусый поляк в красном кунтуше, бледный и худой, как и все находившиеся в осаде люди, особенно горячо убеждал своих соотечественников ответить на присланную грамоту гордым отказом.
– Что ж делать, рыцари! – гремел его голос. – Нет провианта, но есть вино, и в царских погребах, и в боярских. Пустим жолнеров по подворьям… Пусть порыщут в боярских теремах, авось и соберут фуражу…
– Ни, пан, не можно этого, пан гетман не приказал грабить бояр, – послышались робкие голоса из толпы.
– Што нам пан гетман? Пан гетман дружит с московичами в то время, когда достойное рыцарство гибнет с голоду… Пану королю одному отвечать будем, – неистовствовали новые голоса.
Поднялись споры, крики:
– Давно пора добираться до фуража. Наши люди мрут с голоду как мухи!
– Пускай гетман велит открыть боярские погреба!
– Хлеба! Хлеба, а не вина нам надо! – кричали одни.
– Во хмелю легче перенести голод! – отвечали другие.
Начались сумбур и сумятица невообразимые. Небольшая толпа русских со страхом прислушивалась к этим крикам. Высокий худощавый старик, находившийся здесь, среди народа, как только начались шум и споры, незаметно вынырнул из толпы и метнулся по направлению романовского подворья. Это был Сергеич.
Он уже не шел, а бежал так быстро, насколько позволяли ему его дряхлые ноги. Голова старика кружилась и от голода, и от переживаемого им волнения. «Что же это? – проносились ужасные мысли в его голове. – Перепьются ляхи поганые, по домам бросятся, грабить зачнут… Придут и на романовское подворье. Да нешто позволит им это он, Сергеич, с боярскою челядью? Биться за своих хозяев они станут. До последней капли крови оберегать их имущество и животы. А только что они, горсточка холопов верных, поделать смогут среди стольких злодеев, озлобленных, голодных, готовых на зверство и лютость во хмелю?» Теряя нить мыслей, с отчаяньем в душе, Сергеич почти бегом достиг ворот подворья. Приказав мимоходом крепко-накрепко воротникам держать ворота на запоре, он прошел в дом.
В светлице боярыни, старицы Марфы вся семья была в сборе. Миша успокаивал мать, особенно грустившую все это последнее время. Молодая инокиня Ирина совещалась вполголоса с княгиней Черкасской.
Один только Иван Никитич отсутствовал. Он был на совещании у князя Мстиславского по поводу присланной грамоты от воеводы.
Сергеич как только вошел, так и повалился в ноги своей боярыне.
– Матушка боярыня, Марфа Ивановна, лихо пришло! – произнес заплетающимся языком старик. – Бунтуют ляхи окаянные… По подворьям рыскать ладят, снеди да браги искать хотят. Изморились их людишки вконец… Мало того что коней поели да псину с кошатиной, сам своими ушами слыхал, перед обедней толковал народ, как гайдук своего помершего ребенка есть зачал… Едва отняли… С голоду ума решился человек. Так нешто от таких злодеев ждать чего хорошего можно?.. Озверел народ… Матушка боярыня, дозволь тебя схоронить с Мишенькой да с боярыней-княгиней и с боярышней-инокиней… Чего доброго, нынче же набегут злодеи… Мы-то все грудью за тебя с семьею станем… Да нешто нам справиться будет с ними? Так куды лучше было бы в тайничок вам всем перебраться, в подклети, где укладки с мехами на летнее время хороним, а я велю коврами там пол устлать да стены да постели перенести туды… Да дверь-то потайная там, не видать ее будет в стене… Ин и переждете лихое время… А придут злодеи, мы их не подпустим… Грудью все до единого ляжем, вся челядь, как есть… Только бы вас спасти от беды неминучей, бояр, государей наших…
Старик докончил свою речь.
Миша бросился к нему, поднял его и усадил на лавку.
– Хорошо ты придумал, Сергеич, матушку и теток схоронить в тайнике… А я с тобою да с холопами охранять их станем. Самопалы возьмем, а сабли прежние батюшкины холопам раздадим… У ворот станем… Слышь, Сергеич? И пущай только сунется сюды хоть единый лях…
Марфа вскрикнула и обвила руками голову сына, прерывая эти пылкие речи.
– Никуда не пойду без тебя, сокол мой, голубь мой, Мишенька! Не разлучусь с тобою… Без тебя не стану хорониться в тайнике.
Пылающие глаза юного боярчика потухли сразу.
– Матушка, дозволь тебя и теток защищать мне с челядью!.. – взмолился было снова юноша.
Бледная, взволнованная инокиня Ирина выступила вперед.
– Полно, Миша, не к месту твоя отвага… Нешто не видишь, лица нет на матушке твоей?! – с укором произнесла девушка.
Михаил взглянул в глаза матери, и сердце его сжалось от любви и нежности. Он потупился смущенно, потом, рванувшись к ней, крепко обвил побледневшую старицу.
– Не тревожься, матушка! Не посмею ослушаться тебя… Куды хошь с тобою пойду… В тайнике запрусь, матушка, только не кручинься, не бойся за меня, родимая! – горячо срывалось с его уст.
Слушая эти речи, старица Марфа понемногу приходила в себя. Мучительные дни, голод, лишения – ничто не было страшно для матери, беспредельно нежно любившей своего сына, когда он был подле нее.
Глава VII
– Никак, пуще зашумели на крестце? Никак, к обители подбираются! – стоя у накрепко запертой двери, бросала отрывисто молодая инокиня Ирина, тревожными глазами взглядывая на сестру, невестку и племянника.
В небольшом тайнике, находившемся в подклетях, кладовых романовского подворья, три женщины с Михаилом жили уже вторую неделю. Здесь укрыты они от врагов стараниями Сергеича и челяди. Тот же верный Сергеич с холопами сторожит их неустанно и доставляет сюда, в тайник, все необходимое для своих бояр, пищу и питье, по два раза в день. Незавидная это пища. Остатки богатых запасов давно иссякли в романовских кладовых. Уже около года длится осада Кремля, и за этот год, лишенные свежих подвозов, все, до последнего куска солонины, съели осажденные. Теперь сама старица не знает, чем кормит их верный слуга. А Сергеич, питающийся сам одною капустою, как и вся челядь, умудряется, частью из остатков запасов, частью из другой добычи, устраивать полдники и ужины для несчастной семьи. Но этого не хватило на долгое время. И вот старик выходит под видом нищего из подворья каждое утро, проскальзывает к знакомому купцу-торгашу, случайно очутившемуся в осаде. У того в том доме, где он поселился поневоле до снятия осады, еще не опустели кладовые. Запасся купец не на один год мукою и другою снедью и делится с Сергеичем по-братски, зная, ради кого хлопочет старик. Мученики они, Романовы, так ужли же не порадеть для таких людей, невинно страдающих всю жизнь!
И старик купец помогает, чем может, Сергеичу.
Жутки эти хождения старого дядьки-дворецкого. Голодные поляки, как звери, рыщут по Москве, вынюхивая добычу. Пан гетман Гонсевский силою, под угрозой пыток и смертной казни, удерживает их от необузданного желания врываться в дома бояр и грабить их кладовые.