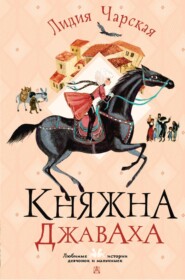По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Большой Джон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы должны танцевать со мной, Николай Васильевич! Я на вашем экзамене двенадцать с плюсом получила.
Смешно переваливаясь на высоких, как ходули, ногах, Аполлон Бельведерский повел свою даму.
Креолке захотелось последовать примеру Вольки, и, наскоро оправив свои кудерки, она очутилась перед Чудицким.
– Владимир Михайлович, пожалуйста!..
Словесник с поклоном подал руку заалевшей от радости девушке.
– Счастливица!.. С самим Чудицким танцует!.. Счастливица Зина!.. – зашептали с завистью вокруг нее.
– Mesdames, mesdames, смотрите, «протоплазма» в пляс пустилась!.. С Малявкой танцует!.. Вот так пара!.. – смеялись девочки, следя глазами за маленьким физикантом, добросовестно отплясывающим кадриль с Пантаровой-второй.
– Вы счастливы, не правда ли, вы счастливы сегодня, m-lle Lydie? – спрашивал Добровский, покручивая свои маленькие усики. – Вы теперь вполне взрослая барышня!
– Ах, да! – искренне сказала девочка. – И «солнышко» здесь… Подумайте, и мама!..
Ее лицо вдруг подернулось облаком грусти. В воображении промелькнул знакомый образ.
– Жаль только, что нет Большого Джона, – со вздохом заключила она.
Ее кавалер, однако, уже ее не слушал.
– Grand rond, s'il vous plait!.. – неистово выкрикивал он.
– Лида, Вороненок, тебя спрашивают, – услышала Лида позади себя.
Перед Воронской стояла Додошка.
– Тебя спрашивают две девочки, они… в коридоре…
У Додошки рот был по обыкновению, набит чем-то сладким, и в руке она держала апельсин, но в лице девочки было что-то лукавое и таинственное.
– Ступай, Лида, ступай скорее…
Сердце Лиды екнуло.
«Вероятно, Каролина и Мари, – решила она. – Но почему же у меня так бьется сердце?..»
И наскоро бросив своему кавалеру: «Pardon, monsieur», она бесцеремонно вырвала у него руку и бросилась в коридор.
Действительно, там на скамейке сидели Каролина и ее сестренка Мари, одетые в изящные шерстяные платьица, а между ними…
– Дитя мое!.. Ко мне скорее! Я знаю и все простила!.. И тебе, и другим!.. Все простила!.. – услышала Воронская. – Дитя ты мое!.. Дитя ты мое!.. – повторяла Фюрст и прижимала к себе стриженую головку Лиды.
– Не плачьте, маленькая русалочка… Все прощено и забыто.
Тут Лида увидела высокого молодого человека, не успевшего еще сбросить плащ.
– Большой Джон!.. Милый Большой Джон!.. Мой брат!.. Мой хороший!..
Большой Джон, как ни в чем не бывало, сбросил с себя плащ, кинул его беззаботно в угол, поглядывал на Лиду своими насмешливыми, ласковыми глазами и добродушно посмеивался себе под нос.
– Что, не ожидали видеть меня здесь? – спрашивал он.
– Да, как вы сюда попали, Большой Джон, голубчик? – обрадовалась Лида.
– Меня привел сюда некий обитатель Парнаса, Аполлон Бельведерский, – прогудел Большой Джон басом, строя одну из своих удивительных гримас.
– То есть Зинзерин? – засмеялась Лида.
– Вы хорошая отгадчица, маленькая русалочка… А теперь ведите нас в залу… Я хочу танцевать с вами котильон, за которым мы вдоволь наговоримся. Но прежде мы поместим в укромное местечко фрейлейн Фюрст и найдем хороших кавалеров для сих юных барышень.
Снова радость овладела Лидой.
Все последующее время пронеслось для нее, как в сказке, как в волшебном полусне, как в дивной грезе.
Она танцевала со своим старым другом, поверяла ему все то, что пережила в последнее время. Говорила, как больно отозвалась на ней их ссора, как мучительно переживала она болезнь фрейлейн Фюрст.
Кончился бесконечный котильон, после которого выпускные окружили Мину Карловну, торопясь выразить ей свое сочувствие.
Растроганная фрейлейн Фюрст была на седьмом небе. После тяжелой болезни она не могла, однако, оставаться на балу до поздней ночи и, обещав девочкам присутствовать на их выпускном акте, уехала домой в сопровождении Лины и Мари, счастливая как никогда. Уехали за нею и «солнышко» с «мамой Нэлли», подтвердив еще раз свое приглашение Елецкой и Додошке провести у них лето.
Но бал не прекращался. Большой Джон, заменивший Добровского в качестве дирижера, придумал славную штучку: попросив разрешения maman, он повел танцующие пары в сад, мазуркой. Стройно заливался оркестр. Пары спорхнули по длинным лестницам, очутились в саду и с веселыми шутками под бряцание шпор и шелест платьев помчались по широкой аллее…
И вдруг звонкая трель прорезала гармонию ночи…
– Соловей!.. – И длинная фаланга танцующих остановилась как вкопанная.
А соловей все пел да пел… Он пел, как ручей в лесу, как тихое озеро в бурю, как стрекот кузнечиков в летнюю ночь, как голос юных легкокрылых эльфов, как поэты старинных рыцарских времен.
– Как хорошо!.. Как хорошо мне, мой Грицю!.. – прошептала Мара, сжимая руку своего жениха. – Будто дома мы, будто на хуторе в вишневом садике поет наш соловей.
– Скоро и мы будем там, серденько мое, – с необычайной лаской в голосе отвечал Грицко своей невесте.
А другая пара впереди, тоже зачарованная роскошной соловьиной песнью, смотрела в лицо друг другу и тихо смеялась.
– Вы ни чуточки не сердитесь на меня теперь, Большой Джон?.. – спрашивала Лида своего кавалера.
– Я был бы большим колпаком с ослиными ушами, маленькая русалочка, если бы посмел еще теперь сердиться на вас, – отвечал Большой Джон.
Соловей стих. Музыканты приблизились к окнам залы, и звуки оркестра наполнили сад.
– Вперед! – крикнул Большой Джон. – Вперед – не танцующие пары, а вы все, славные, юные существа, собирающиеся выпорхнуть из этого старого гнезда! Смело и бодро вперед в незнакомую жизнь на помощь близким, на утеху несчастным, и да покажется вам жизнь прекрасной, как эта белая ночь, как соловьиная песнь, как музыка, чарующая нас в эти минуты!..
– Ура! Большой Джон, ура! Дай Бог, чтобы слова ваши сбылись, добрый волшебник! – крикнула Лида, и все пары подхватили это «ура».
А белая ночь, казалось, знала то, чего не знали юные девушки, готовившиеся выпорхнуть из старого, насиженного гнезда…