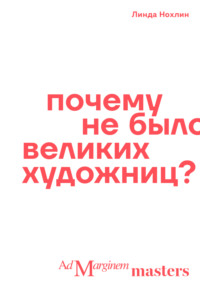Изобрести современность. Эссе об актуальном искусстве
Однако важным этот текст делает не только готовность Нохлин серьезно отнестись к выставке, которую другие критики списывали со счетов как образец сомнительного кураторского подхода, основанного на «политике идентичности», но и то, что статья предлагает своим читателям некий наглядный урок. Отметив, что она посмотрела эту выставку незадолго до ретроспективы Никола Пуссена в парижском Гран-Пале, Нохлин говорит, в каких отношениях «Черные мужчины» побудили ее по-новому взглянуть на произведения художника, стоящего в самом центре «западного канона», позволив ей разглядеть то, чего она раньше не замечала в картинах Пуссена – «блестящего, классического, но не обычного художника». Хотя и уточняя, что «главная цель выставки „Черные мужчины“ состоит отнюдь не в том, чтобы дать возможность зрителю, темнокожему или белому, пересмотреть великую западную традицию», Нохлин явно побуждает своих (белых) коллег-критиков преодолеть собственные предрассудки ради противостояния тому, в чем она видела величайшую опасность, исходящую от борцов за культуру: превращению западной традиции в «ритуальную могилу мертвых артефактов, погребенных окостеневшими чувствами» [19].
Тот факт, что Нохлин отвергала доминирующие нарративы, не означает, что у нее не было четкой позиции; напротив, она постоянно возвращалась к определенному ряду тем и вопросов, будь то рассуждения о французском академическом искусстве с XVII века и далее, Курбе, Пикассо, праздники труда начала XX века или Энди Уорхол. В центре ее проекта стоял, разумеется, феминизм – объектив, глядя через который она стремилась прорваться сквозь визуальный шум и разглядеть движущие силы, часто лежащие на видном месте и при этом незаметные; идеологическое содержание, которое служит для оправдания патриархата, расизма, колониализма и т. д. Феминизм служил также инструментом, который она использовала, чтобы находить моменты ясности и избавления от репрессивных режимов или даже утопическую перспективу жизни за их пределами, закодированную в передовом искусстве.
Эта книга организована так, чтобы выделить некоторые мотивы, постоянно возникающие в текстах Нохлин. Раздел под названием «Революции в искусстве и истории» включает три определяющих эссе, которые показывают, что утопическая возможность политической революции всегда лежала в основе ее размышлений об искусстве. Разделы «Тела современности» и «Абстрагировать тело» объединяют несколько ключевых статей Нохлин о французском искусстве конца XIX века и американском искусстве конца XX века, в которых она доказывает, что некоторые из наиболее важных тем искусства, культуры и общества (мужское и женское, натурализм и абстракция, работа и отдых, болезнь и здоровье и т. д.) не просто были предметом художественной репрезентации, но и фактически сформировали наши представления о том, что значит пребывать в мире телесно. Раздел «Другой взгляд на историю искусства» включает эссе, в которых феминистский подход Нохлин открывает другие формы различия – в данном случае идеологии расы и колонизации. В «Абстракции и реализме» эти два термина рассматриваются не просто как художественные методы или стили, а в контексте более широких вопросов о том, как мы представляем себя в отношении к социальным структурам. «Музеи и ви́дение» и «Жанр и форма» исследуют способы, с помощью которых художественные институции – музеи и галереи, а также категории, на которые мы разделяем культуру и производство, – укрепляют современную субъективность. Наконец, «Искусство как/и труд» поднимает тему труда, которая занимала Нохлин на протяжении всей ее творческой биографии и к которой она вернулась в своей последней книге: «Отверженные: визуальная репрезентация обездоленности в XIX веке» (2018).
Одно замечание о том, что вошло в книгу и что осталось за ее рамками: в наших первых беседах о том, какую форму должна принять книга, мы с Нохлин ясно сознавали эффект выделения этих статей из более широкого корпуса трудов. Поскольку ряд ее текстов уже публиковался под одной обложкой, в сборнике «Художницы», мы рисковали внушить впечатление, будто проект современности был делом преимущественно мужским. С учетом этого «Изобрести современность» нужно воспринимать в паре с «Художницами»: эти два аспекта творчества Нохлин, разделенные на две книги исключительно по причине логистики издательской индустрии, в действительности неотделимы друг от друга. Женщины занимали центральное место в современности – как субъекты и объекты, как практики и потребители и, конечно, как люди, испытывающие воздействие сформированного ею идеологического ландшафта.
Нохлин очень твердо придерживалась принципа: не править свои статьи после публикации; она была в достаточной мере историком, чтобы полагать, что публичные документы не следует подвергать изменениям. Поэтому мы старались по возможности использовать тексты в их первоначальном виде, лишь приведя их в соответствие с общим стилем издания, вставив полные имена художников, изменив названия и даты произведений согласно недавним исследованиям и дав переводы с французского для удобства читателей. Хотя отношение Нохлин к переделкам дает прекрасную возможность проследить формирование ее идей, временами оно требует, чтобы читатель помнил об историческом моменте, в который было написано то или иное эссе. В одном случае я исключила текст из книг, и несмотря на глубокое желание Нохлин включить его: речь идет о ее лекции 1974 года «Я как художественный объект», которой она очень гордилась; в ней Нохлин выступила против историко-художественного истеблишмента, упорно рассматривающего предметы культур Африки и Океании как «примитивные». В противовес этой точке зрения она поставила практики телесных украшений, распространенные в Африке и на островах Тихого океана, в один ряд с авангардными интервенциями в сферы моды, изготовления масок и самоукрашения в доказательство того, что все эти формы имеют одинаковое культурное значение. Хотя эти аргументы означали важное вторжение в консервативные пространства преимущественно белой дисциплины, каковой была в тот момент история искусства, для современного уха язык этого текста звучит безнадежно проблематично: боюсь, просить современного читателя помнить о том, что он имеет дело с продуктом прошлого, было бы чересчур. Язык, как и сама эта сфера, изменились слишком сильно.
Однако чаще ее язык и идеи звучат так же свежо и актуально, как и в те времена, когда она их записывала. Нохлин была писателем в душе – автором стихов, текстов по истории искусства и критических эссе. Пять лет, на протяжении которых я была с головой погружена в тексты Нохлин и корпела над толстой папкой с ее записями, стали для меня (только что решившей стать писателем, а не историком искусства) сродни обучению в магистратуре. Что за уединенное удовольствие – читать и перечитывать искусную прозу Нохлин: предложения, пересекающие страницу с такой свободой и дерзостью, слова, выбранные ею потому, что именно такими они сорвались у нее с языка, эксцентричная (но никогда не неуместная) игра пунктуацией, благодаря которой фраза читается так, как она произнесла бы ее вслух. Она любила слово «троп», а слово «топос» – еще больше. Она никогда не стеснялась использовать непристойное слово, если это было необходимо, особенно когда возникала опасность сверхинтеллектуализации чувственных и земных радостей искусства. Она привлекала исторические, литературные источники, военные песни Гражданской войны, моду и поп-культуру из своего неисчерпаемого репертуара.
По мере продвижения моей работы над рукописью я начала понимать, как много я узнала об искусстве и самом письме от Нохлин. Ее проблемы со здоровьем обострялись, и бывали моменты, когда мне приходилось строить догадки, когда я расшифровывала ее рукописные заметки и примечания на полях ранее не публиковавшихся работ, преобразуя их в гладкую прозу. Часто, просматривая страницы, она не могла отличить собственный текст от моих предположений. Конечно, я никогда не угадывала с абсолютной точностью: она всегда держала наготове красный карандаш, чтобы снова сделать слова своими. Но всё же: сколь ярким и волнующим было чувство, что я впитала немалую долю ее стиля и голоса, хотя она всегда побуждала меня искать свой собственный!
Важнейший урок письма из всех, какие я когда-либо получала, исходил от Нохлин. Я работала над диссертацией, с трудом прокладывая свой путь сквозь множество вариантов и теряясь в собственной аргументации. Когда я наконец принесла ей одну из этих попыток, она взглянула лишь раз и протянула текст обратно. «Где название?» – спросила она. «Название? Я придумаю его потом. А что насчет текста?» – ответила я беспечно, возможно слегка раздосадованная этой придиркой. «Всегда начинайте с названия, – настаивала она. – Имея название, вы имеете ориентир, показывающий, куда идти».
Действительно, когда мы начали работать над ее сборником, название – «Изобрести современность» – было первым, с чем мы определились. Мне очень жаль, что я не покажу ей готовую книгу, но она знала, что публикация не за горами. Ее величайший дар мне – один из многих – заключается в том, что она дала мне шанс стать частью этой работы. Ее дар всем нам – часть которого заключена под обложкой этой книги – это этика, основанная на справедливости, свободе, любознательности и радости.
Революции в искусстве и истории
Глава 1
Год 1848: революция в истории искусства
Лекция, прочитанная в рамках Симпозиума по истории искусства, Собрание Фрика, Нью-Йорк, 7 апреля 1956, публикуется впервые
Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыграть новую сцену всемирной истории.
Так пишет Карл Маркс в начале своего блестящего анализа Французской революции 1848 года «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» [20]. Сорок восьмой год действительно был годом перемен и потрясений. Прежде всего он отмечен возникновением класса неимущих рабочих – пролетариата – как доминирующей общественно-политической силы. Но в то же время пророки и герои Революции 1848 года слишком часто облекали свои утопические идеалы будущего в изношенные одежды прошлого, игнорируя при этом суровые факты настоящего.
В сфере искусства 1848-й – это переломный год в процессе постепенного перехода от романтизма к реализму в роли прогрессивной силы французской живописи. Некоторые значимые художники, такие как Гюстав Курбе, Жан-Франсуа Милле и Оноре Домье, внесли в стилистику своих работ существенные изменения, которые отразили драматическую трансформацию социальной и политической сфер, происходившую в тот момент. Однако в этом докладе я хотела бы обсудить не изменения в живописи как таковые, а скорее новые идеи в теории искусства и роль государства по отношению к искусству.
В то время как официальное искусство, поддерживаемое революционным правительством, держалось надуманного символизма и традиционной риторики, левое крыло теоретиков искусства нащупывало – правда, зачастую нелепыми способами – новые принципы и новый художественный язык, более подходящие для выражения идей современности. Это начинание и нашло воплощение (по крайней мере частичное) в реалистическом направлении, которое возникло сразу после революции.
Конечно, идея общественной полезности искусства, тесно связанная с политической, моральной и экономической деятельностью человека, не нова – она восходит еще к «Республике» Платона. Во Франции, где со времен Никола Пуссена одно из течений в искусстве всегда имело ярко выраженные моральные обертоны, кульминацию подобных представлений мы находим в трудах Дени Дидро и художественной программе Первой республики 1792 года. И всё же никогда социальная роль искусства как радикальной силы не формулировалась более четко, чем в трудах левых мыслителей, написанных накануне Революции 1848 года и сразу после нее, а также в программах, выдвинутых самим революционным правительством.
Еще в 1830-е годы французские романтики поддерживали и продвигали литературное движение социально сознательного рабочего класса, призванное пробудить чувства и побудить к действию. По мере приближения 1848 года субъективное вдохновение романтизма, первоначально связанное с лиризмом, снижалось параллельно растущей потребности в социальном анализе как в живописи, так и в литературе. В статье, опубликованной в 1834 году в Révue Républicaine, Этьен Араго, который впоследствии станет членом временного революционного правительства 1848 года, заявил, что «прекраснейшая миссия художника состоит не в том, чтобы более или менее изысканно предъявлять себя этому миру, а в том, чтобы проповедовать в своей собственной манере и тем самым всей силой своего гения способствовать прогрессу человечества» [21]. Причина, по которой искусство XIX века не самореализовалось в полной мере, полагал он, заключалась в «отсутствии цивилизующего идеала, убеждения, цели, которая прежде всего была бы истинно социальной» [22].
В ответ на эту часто повторяющуюся претензию были предложены различные решения. Некоторые, например художник Шарль Глейр, считали, что решение можно найти в новом, социально значимом сюжете картины. С этой целью в 1835 году он задумал картину в трех частях, своего рода социологический триптих: прошлое должно было быть представлено королем и священником, подписывающими договор о союзе, настоящее – добропорядочным буржуа, наследником прошлого, лениво растянувшимся на софе и получающим прибыль от своих земель и фабрик, а будущее – людьми, получающими прибыль от всего своего труда [23].
С 1838 по 1848 год непрерывный и нарастающий поток критики, по мере приближения революции становившейся всё более декларативной, выражал одно и то же убеждение: что у живописи есть долг, который она должна выполнить, и что она должна играть дидактическую роль в улучшении условий человеческой жизни и обращаться к массам. Выдающийся критик и историк искусства Теофиль Торе в письме 1844 года своему другу, художнику Теодору Руссо, предупреждает об опасности изоляции искусства от человека и общества: «На нас также лежит обязанность вносить непосредственный вклад в совершенствование других созданий. ‹…› Ты скажешь, что это политика, а не искусство! Но политика – сестра твоей любимой поэзии. Когда политика лжива, поэзия страдает и не может расправить крылья» [24].
Сами социальные реформаторы проявляют интерес к искусству в рамках своих программ. С 1829 года сен-симонианцы обращались с воззваниями к художникам, а в 1843 году в «Фаланге», журнале фурьеристов, Габриэль Дезире Лавердан определяет миссию искусства, призванного «воспевать и прославлять человеческую жизнь и предлагать нам образы прекрасного и доброго в качестве примеров для подражания» [25]. Известный философ-позитивист Огюст Конт включает в свой «Курс позитивной философии» 1842 года рекомендации в отношении позитивистской эстетики, основанной на «спонтанном схождении всех современных концепций к великому понятию человечности» [26]. Конт выражал надежду на великое искусство будущего, но это окончательное обновление, по его ощущению, не могло быть достигнуто без включения искусства в тотальность современного общественного порядка.
Многие другие тоже считали, что долгожданное обновление искусства не может осуществиться без соответствующей революции в его социальной основе. Среди них был и Теофиль Торе, самый чуткий и влиятельный художественный критик левых. На протяжении всей своей карьеры критика и историка искусства Торе (который после возвращения из ссылки, куда отправился за свою радикальную деятельность при революционном правительстве, был известен под псевдонимом Бюргер) терзался гамлетовскими сомнениями. Поначалу ярый приверженец романтического движения, особенно Эжена Делакруа, которого он боготворил, позднее он пересмотрел свои взгляды в пользу реализма. После возвращения из ссылки Торе пишет, что заслуга романтизма, в свое время обладавшего новизной, состояла в том, что он был реакцией на «нелепую школу первой империи», но теперь он, в свою очередь, «должен уступить дорогу новой школе». «Отныне, – объясняет Торе, – научное течение углубило русло непреодолимого потока; искусство должно следовать тем же путем, что и философия, политика и поэзия, путем позитивной науки и реализма».
По мнению этого критика, начиная с эпохи Возрождения западное искусство выбирало между двух мифологий: язычеством и христианством, культом Венеры и культом Девы. В искусстве прошлого не существовало человека, и в настоящее время, утверждает Торе, он всё еще ждет своего часа. Человек в его простом человеческом качестве за редкими исключениями никогда не становился предметом искусства или литературы.
Согласно Торе, современные художники всё еще не в ладах со своим временем; обращаясь к идеям, символам, картинам того, чего уже нет, к ретроспективным стилизациям, они чураются убеждений, обычаев и деяний современного общества. «Пусть источником вдохновения художника больше не служат ни языческая Античность, ни католическое Средневековье, и тогда форма будет освобождена уже в момент замысла». Торе называет эту новую программу «l’art pour l’homme» («искусство для человека») в противоположность «l’art pour l’art» («искусство для искусства») [27]. Однако точную сущность «искусства для человека» определить сложно. Торе считает, что при создании произведения искусства, независимо от его формы или содержания, художник должен задействовать глубокие, естественные и бесспорные чувства, которые могли бы передаваться другим людям, просвещать и наставлять их.
Определение «l’art pour l’homme», безусловно, расплывчато. Напрасно искать в трудах Торе, даже после 1848 года, упоминаний какого-либо художника того времени, который, отвечая подобным требованиям, иллюстрировал бы его принципы. Курбе, наиболее вероятного кандидата, Торе видит «во главе живописцев» («le plus peintre») французской школы, но считает его прежде всего хорошим ремесленником, возможно, великим живописцем, но не великим художником. Эта независимость суждений – чуткость Торе к искусству и восхищение если не искусством для искусства, то искусством как искусством – и придает ему значимость как художественному критику, но в то же время мешает сформулировать или поддерживать какую-либо социально мотивированную доктрину или программу по улучшению плачевного состояния искусства его времени.
С одной стороны, он осуждает тех, кто мог бы стать его героями. О художнике Поле Шенаваре, пытавшемся выразить иконоборческие социальные идеалы с помощью эзотерической символики, Торе говорит (обсуждая «Дантовский ад» 1846 года и два других рисунка, отвергнутые жюри), что «стремление к высокому стилю и значению подавляет его плодовитость. Критическое мышление сковывает его мощную руку – его глубокая философская система заставляет его пренебрегать внешними средствами» [28]. Милле он хвалит более чем сдержанно и считает, что, хотя Курбе, насколько может, выражает новые тенденции, он всё еще далек от поставленной Торе цели. По мнению этого апостола социализма, для создания хорошего произведения искусства одних благих намерений недостаточно: «Ватто и Буше кажутся нам даже предпочтительнее тяжеловесных компиляторов, которые воображают, что могут создать картину из большой идеи и честного намерения» [29]. Однако, с другой стороны, Торе искренне верит, что искусство должно быть искусством социального убеждения и утверждения: «Искусство преображается только благодаря сильным убеждениям – достаточно сильным, чтобы одновременно изменить общество».
Гораздо более последователен, хотя и куда менее проницателен в своих эстетических идеях анархист Пьер-Жозеф Прудон, один из ведущих радикальных агитаторов и социальных теоретиков революции 1848 года, чьи размышления об искусстве – предмете, о котором, по его честному признанию, он ничего не знал, были опубликованы лишь после его смерти в 1865 году. «Du Principe de l’art et de sa destination sociale» («Искусство, его основания и общественное назначение») – это прежде всего апология Курбе, близкого друга Прудона и его соратника-социалиста. Рассматривая работы Курбе, Прудон вскоре делает вывод, что в художественном призвании заложена социальная миссия. Он пытается вывести общие принципы оценки живописи и в итоге приходит к определению сущности искусства, которая заключается «в воспроизведении более или менее идеализированном нас самих и внешних предметов, сообразно нравственному и физическому усовершенствованию человеческого рода». Даже более, чем в случае Торе, его parti pris[30] отражает и поддерживает радикальные общественные идеалы с помощью современного вокабуляра.

1 Гюстав Курбе. Дробильщики камней. 1849. Холст, масло. 165 × 257 см
Хотя обычно критики с презрительными насмешками отмахиваются от Прудона, некоторые из его суждений – пусть он и приходит к ним окольными путями социалистической мысли – совпадают с суждениями серьезной художественной критики начала XIX века. Например, обсуждая Теодора Жерико, он говорит: «Единственная картина: „Плот «Медузы»“ [1819] Жерико, написанная 25 лет спустя после умирающего Марата [1793] Давида, искупает целую галерею Мадонн, Апофеозов и святых Симфореонов» [31]. Хотя его рассуждения о картинах Курбе по большей части выдержаны в духе вопиющей сверхинтерпретации, временами Прудон демонстрирует определенную проницательность, которой явно недоставало многим из его более сведущих в искусстве современников, когда они сталкивались с такими произведениями, как «Дробильщики камней» (1849) Курбе (рис. 1).
Прудон начинает анализ картины с таких очевидных нелепостей, как, например, описание старика: «Его одеревенелые руки подымаются и опускаются с правильностью рычага. Вот механический, или механизированный, человек, в горьком положении, в которое его ввергли наша цивилизация и наша несравненная промышленность»; или описание юноши: «Посмотрите теперь на этого жалкого юношу, который несет камни, на его долю не достанется никаких радостей жизни; осужденный раньше срока на тяжелый труд, он уже весь изможден: у него уже сведено плечо, походка его какая-то расслабленная ‹…› Истомленный с отрочества ‹…› вот пролетариат». Однако дальше описание демонстрирует некоторую наивную прозорливость: «Если бы Курбе ‹…› был так же влюблен в антитезы, как Виктор Гюго, ему ничего не было бы легче, как ввести в свою картину контраст; он мог бы поместить своих каменщиков вблизи решетки богатого замка: за этой решеткой в перспективе мог бы находиться обширный и роскошный сад ‹…› но Курбе предпочел просто большую дорогу, пустыню с ее монотонностью ‹…›; поэзия уединенной дороги совершенно не то что вычурный контраст роскоши и нищеты» [32]. Именно в прямоте высказывания, проявляющейся как в ее форме, так и в содержании, в строгом воздержании от комментариев и объяснений, и кроется сила этой картины.
Можно смеяться над взглядами Прудона, над его часто наивным материализмом, над его уверенностью в том, что у искусства должна быть «более высокая» цель, нежели простое существование в качестве произведения искусства, но необходимо помнить, что он, подобно другим упомянутым выше левым теоретикам, равно как и многим из тех, о которых мы не упоминали, представляет важную эстетическую идею с долгой историей: задача искусства состоит в том, чтобы правдиво изображать человеческий род и в то же время просвещать и возвышать его.
Теперь давайте перейдем от теории искусства к собственно художественной деятельности, осуществлявшейся при революционном правительстве 1848 года. Искусство, поддерживаемое временным правительством под руководством Александра Огюста Ледрю-Роллена, в своей жалкой попытке воплотить идеи настоящего в художественных атрибутах прошлого демонстрирует нам почти идеальный образец внутренних противоречий самого революционного политического режима. Февральское правительство, куда входили такие интеллектуалы, как поэт Альфонс де Ламартин, астроном Франсуа Араго и меценат Ледрю-Роллен, питало глубокую симпатию как ко всем видам искусства, так и к идеям социального прогресса, экономического равенства и нравственного подъема, но не обладало ни политической дальновидностью, ни, что важнее, финансовыми средствами для реализации своих благих намерений.
Члены правительства, безусловно, очень скоро осознали социальную значимость искусства для их недавно сформированного режима. Одним из первых шагов нового министра внутренних дел Ледрю-Роллена стала отмена ненавистной системы жюри при отборе работ для Салона, в результате чего, когда 15 марта выставка открылась, ее экспозиция включала все предложенные работы – около 5500 произведений. Внутри самого законодательного собрания Ассамблеей 15 мая был создан Комитет по изящным искусствам.