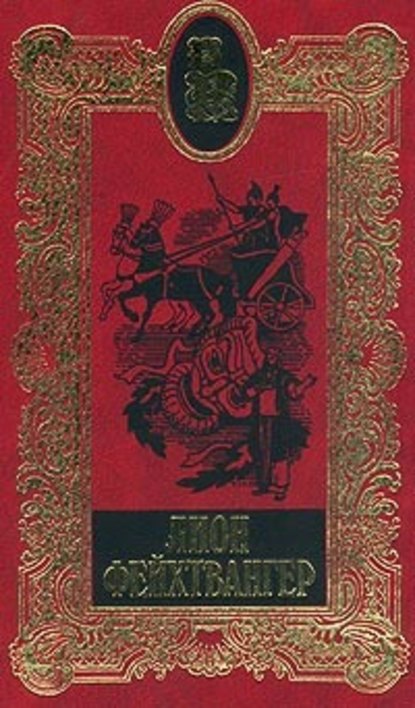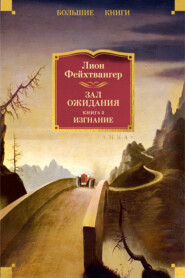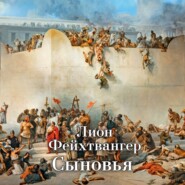По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сыновья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О наш император Тит! О ты, великий писатель Иосиф Флавий! – раздавалось со всех сторон. Восклицали сенаторы в белых одеждах с полосою пурпура, в красных башмаках на толстой подошве, с черными ремнями, восклицали, несколько кисло, коллеги Иосифа, восклицали гордо и взволнованно те немногие евреи, которые были приглашены: доктор Лициний, Гай Барцаарон.
– О наш император Тит! О ты, великий писатель Иосиф Флавий! – счастливая, кричала, вместе с другими, Дорион. Ей порой удается на несколько мгновений сделать вид перед старым Валерием и Аннием Бассом, что весь этот праздник – пустяк, и разыгрывать ироническое превосходство, но ненадолго. Оба ее спутника и сами не могут противиться впечатлению, которое производит на них церемония. Итак, Дорион стоит, преисполненная гордости, ее тонкое, чистое лицо слегка покраснело, большой рот по-детски полуоткрыт. Для всех – для Анния, и Валерия, и Флавия Сильвы – Иосиф отныне перестанет быть презренным евреем, но будет великим писателем, чья почетная статуя торжественно высится здесь, в храме Мира. Дорион издевалась над ним, когда он говорил о себе как о человеке, чья власть безгранична и безоговорочна, как решение судящего мертвых. Но разве теперь о нем не сказал нечто подобное даже насмешник Марулл? Она переводит взгляд с его худощавого, красивого лица на бледный, благородный блеск бюста, и перед ней теперь новый Иосиф, вокруг него загадочное сияние, такое же, какое исходит от коринфской бронзы, его живая голова гордо и чуждо взирает поверх других, так же как и голова из бронзы. И она чувствует, как в ней возрождается ее былая неудержимая страсть к Иосифу, ее влечет к нему, как некогда в Александрии, когда она с ним соединилась.
Сам Иосиф стоит, окруженный всеми этими почестями, в скромной и достойной позе. Но за высоким, выпуклым лбом бурлят мысли. Вот он, благословенный день, день исполнения, столь долгожданный. Это – вступление Израиля через первые открывшиеся врата в почетный зал народов. Но разве его почести не добыты обманом и лестью? Вот его бюст: под темно-зеленым венком – бледное, благородное поблескивание бронзы. Но сам он сделан из плохого материала. Какой жалкой кажется ему его книга, когда он сравнивает ее с тем, что он призван создать! И даже эту жалкую книгу он смог закончить только с помощью Финея. Прошли времена, когда он, дописав книгу о Маккавеях, гордился своим греческим языком. Теперь он видит, что ему повсюду нужны подпорки и поправки. Даже сына своего Павла не удалось ему увлечь своей идеей, – как же он увлечет за собою мир? Его охватывает растерянность, он полон сознания собственного ничтожества. Он слышит праздничный, почетный шум; но сквозь этот шум, тихо и все же без усилий покрывая его, опять звучит укоряющий, презрительный голос, голос его друга-врага, обесценивая, заранее уничтожая всякое возражение: «Ваш доктор Иосиф – негодяй». Он смотрит на лица окружающих, – разве они не видят, как он жалок? Ощущение своего бессилия грозит задушить его, сейчас он упадет. Он оглядывается, ища помощи. Но нет никого, кто бы оказал ему эту помощь. Нет даже Алексия, стеклодува. Если бы он мог хоть положить руку на голову своего сына-еврея, Симона-Яники! Но нет никого.
С его бледного худого лица все еще не сходит та же скромная и гордая улыбка. Может быть, оно стало только чуть-чуть бледнее. Окружающие находят, что это человек, умеющий нести бремя своего счастья, достойный своего успеха.
Часть вторая
МУЖ
После мучительной жары этого месяца сегодня, 27 августа, наконец подул прохладный ветер, и Иосиф, направляясь в носилках на Палатин, всем существом наслаждался легким, свежим воздухом. Он был счастлив. То, что Тит, даже сейчас, во время пожара, нуждается в нем, было для Иосифа большим торжеством. Ибо сегодня, на четвертый день, все еще не был затушен пожар, величайший со времен Нерона. Может быть, бедствие было на этот раз еще более жестоким. Тогда огонь разрушил лишь тесные, уродливые кварталы старого города; теперь же он добрался до красивейших районов – Марсова поля, Палатина. Сгорел дотла Пантеон, бани Агриппы, храмы Изиды и Нептуна, театр Бальба, театр Помпея[33 - Пантеон – посвященный всем богам храм, круглое здание, выстроенное (вместе с банями) Марком Випсанием Агриппой, другом и зятем императора Августа в 28 г. до н.э. Театр Бальба – одно из самых больших и красивых театральных зданий в Риме, выстроенное в 13 г. до н.э. государственным деятелем в драматургом Луцием Корнелием Бальбом Младший. Театр Помпея – первый римский постоянный театр на сорок тысяч зрителей для драматических представлений; воздвигнут Гнеем Помпеем Великим и открыт в 55 г. до н.э.], Народный зал, Управление военными финансами, сотни лучших частных особняков. Но, главное, был вторично разрушен Капитолий, едва отстроенный заново, этот центр римского мирового могущества.
Являлось ли это знамением богов, направленным против Кита? Враждебные толки усиливались. Особенно волновались евреи. Они сами пострадали от пожара, их лучшая синагога, Ведийская, та, что на левом берегу Тибра, была разрушена. Все же они с удовлетворением смотрели на пожар. Ведь это на их деньги, предназначенные для храма Ягве, отстроил заносчивый победитель храм Капитолийской троицы. И вот, простояв так недолго, он уничтожен вторично, этот Капитолий, один вид которого вызывал в них столь горькую злобу и страдание! Это – рука Ягве, торжествовали они, рука Ягве карает человека, который испепелил его дом и унизил его народ. В их кварталах стали повсюду появляться уличные пророки, возвещали конец света, раздавали трактаты о мессии, мстителе, принесшем меч.
Правда, сам Иосиф смотрел на вещи с другой точки зрения. Он испытывал глубокую удовлетворенность. Несмотря на то, что Тит сейчас же – и притом с несвойственной ему за последнее время энергией – принял решительные меры, рассылал повсюду пожарные и уборочные команды, прекращая всякие попытки грабежа, организовал пристанища для оставшихся без крова, он все же нашел время вызвать к себе Иосифа.
Тихо покачиваясь в носилках и предаваясь приятным мыслям, вдыхал Иосиф свежий ветер. Все складывалось по его желанию. После того как ему воздвигли бюст, Дорион стала совсем другая, она – одно с ним, как в первые, лучшие времена в Александрии. Он рад, что может исполнять ее желания, или – зачем лицемерить? – ее прихоти. Правда, это не легко. Он вторично проверил смету на постройку виллы. Несмотря на неожиданно большую сумму, подаренную ему императором, придется все же занимать, если он хочет сделать хоть сколько-нибудь приличный взнос на построение синагоги его имени и одновременно строить виллу для Дорион. Клавдий Регин, его издатель, не откажет ему в необходимых деньгах, но это послужит Регину желанным поводом для неприятных замечаний. Однако именно то, что исполнение жениных прихотей стоит ему жертв, и привлекает Иосифа. Сегодня ночью он обещал ей виллу. Он улыбается, вспоминая, как хитро она выманила у него согласие. Теперь, после пожара, деловито пояснила она, начнется новое большое строительство. Многие, жившие до того в центре, начнут строиться в окрестностях, участки вокруг Альбанского озера и строительные материалы вздорожают. Но она предвидела это и сговорилась с архитектором Гровием. Он сдержит слово, оставит для нее участок, не превысит сметы.
Иосиф знает жизнь. Он знает, что архитектор все равно выйдет за пределы сметы, знает, что обещанная вилла обойдется недешево. Но он вспоминает, как лежала Дорион подле него, положив голову ему на грудь, и тонким, совсем детским голосом уговаривала его; он и сейчас, днем, не жалеет о данном согласии. Он может себе позволить быть великодушным. Человеком умеренным его никак нельзя назвать. Он никогда не был умеренным, он всегда жаждал еще больше жизни, больше успеха, труда, наслаждений, любви, мудрости, бога. Но сейчас он добился своего, сейчас он собирает жатву.
Тит быстрыми шагами пошел ему навстречу, сердечно приветствовал его. С тех пор как императору известна причина, из-за которой откладывается приезд Береники, с тех пор как ему стало известно, что не он тому причина, он бодр, деятелен, его вялость исчезла. Пожар не может поколебать его уверенности. За счастье нужно платить жертвами, – к этой мысли он привык. Разве мудрая Береника не сделала этого добровольно, заранее? Кроме того, пожар даст ему возможность показать свою щедрость, в противоположность скупости отца. Собственно говоря, пускается он в полную откровенность с Иосифом, пожар случился очень кстати. Тит всегда имел намерение строить. Гибель старого Рима для него лишь подтверждение того, что небо одобряет его планы. Он подробно, с увлечением, рассказывает Иосифу о том новом Риме, картину которого носит в себе, – насколько величественнее будет новый Капитолий, как много прекрасного и нового он создаст на месте плохого и старого.
Но больше, чем новое строительство Рима, больше, чем все другое, занимает его, как и прежде, Береника. Доверчиво, и уж не в первый раз, расспрашивает он еврея Иосифа, своего друга, удастся ли ему разрушить стоящую между ним и ею преграду?
– Ты сам, мой Иосиф, женился на египтянке, – говорит он. – Я знаю, что многие это сочли грехом. И моим римлянам не понравится, если я женюсь на чужестранке. Скажи мне откровенно, как относитесь вы, евреи, к браку с чужестранкой? Это грех перед вашим богом?
Иосифу было приятно, что император с ним так откровенен. Терпеливо, как уже делал не раз, объяснял он ему:
– Иосиф, наш герой, чье имя я ношу, взял себе в жены египтянку, наш законодатель Моисей – мадианитянку. Царь Соломон спал со многими чужестранками, как со своими женами. И мы, евреи, почитаем и превозносим Эсфирь, супругу персидского царя Артаксеркса.
– Это утешительно, – задумчиво отозвался Тит. – Я должен тебе признаться, мой Иосиф, – добавил он, близко подойдя к нему, обняв его рукой за плечи и улыбаясь по-мальчишески смущенно, – я всегда чувствую себя перед ней маленьким мальчиком. Она – чужая и на недосягаемой высоте, даже когда я беру ее. Я хочу, чтобы она стала со мной одно, я хочу слиться с ней. Но она замыкается от меня, даже когда отдается мне. У вас, евреев, есть для этого акта дьявольски умное выражение: мужчина познает женщину. Я до сих пор не познал ее. Но, когда она теперь приедет, она, я в этом уверен, передо мной раскроется. Дело в том, что я нашел причину, почему не мог до сих пор подойти к ней ближе. Меня сковывали остатки нелепого предрассудка, мое римское высокомерие разделяло нас, как панцирь. Но за эти недели я стал мудрее. Теперь я знаю, что империя нечто большее, чем расширенная Италия. Может быть, эта катастрофа – предостережение вашего бога. Теперь предостережение уже излишне. Допускаю, я ничего не делал, мои руки были праздны, не выполняли того, к чему меня побуждали мое сердце и мой мозг. Но теперь конец праздности. Этот Флавий Сильва не внесет в сенат своего законопроекта относительно обрезания. Белобашмачники в Александрии будут укрощены. Скажи об этом своим евреям. Пусть верят в меня. Я в ближайшие же дни подробно все это обдумаю с Клавдием Регином.
Собственно говоря, Иосиф собирался после аудиенции вернуться домой. Но он с самого начала испытывал ребяческое желание показаться в парадной одежде Маре и Симону. Теперь, после милостивого приема у Тита, он уже не мог подавить в себе этого желания. Он отправился к стеклодуву Алексию.
События и внутренние и внешние подчинялись ему. Исчезло гнетущее чувство своей неполноценности, охватившее Иосифа тогда, в минуту его, казалось бы, высшего торжества. Хорошо, пусть его жизнь сложна, сложны отношения с Дорион, не просты и отношения с Марой. Но у него свой метод. Женщина, которую он любит и без которой не могут обойтись ни его сердце, ни его чувственность, отказывает ему в сыне. Ну, так он возьмет сына другой, той, которой не любит, но которая ему ни в чем не отказывает.
С устройством маленького Симона в Риме дело пошло не так гладко, как Мара себе представляла. В строго ортодоксальной школе, на правом берегу Тибра, куда мальчик поступил сначала, ему, как незаконнорожденному, как сыну презренного Иосифа, приходилось выслушивать много неприятного. Мара взяла его оттуда, отдала, по совету стеклодува Алексия, увлеченного умным мальчуганом, в более либеральную школу. Там Симон чувствует себя хорошо, ему не колют глаза тем, что он – сын Иосифа. Но его мать, которая боязливо цепляется за старые обычаи, недовольна. Ее Симон-Яники учится в этой аристократической школе сомнительным вещам. Никто не запрещает ему, даже в субботу, вместе с мальчиками-язычниками предаваться шумным уличным играм. Его ближайший друг – маленький Константин, сын отставного полковника Лукриона. Однажды оба мальчика вздумали задирать жрецов Изиды, произошел скандал, даже полиция вмешалась. Обоих видели в ресторане «Стоило под оливами». Ел ли там Симон запрещенные кушанья или нет – этого из него не вытянешь; на вопросы Мары он молчит, как каменный; но что с ним будет, если вдруг он там отведал свинины, которую вывеска ресторана восхваляет как главное свое блюдо?
Иосиф не находит в этих проделках ничего страшного. Он видел маленького Константина, приятеля Симона, буйного, грязного парнишку. Они дерутся, но привязаны друг к другу; маленький Константин даже почитает Симона после того, как тот показал его отцу, отставному полковнику, одну из своих моделей орудия и полковник пробурчал: «Недурно. Для еврейского мальчика даже удивительно!» Но воспитание Симон получает, конечно, не идеальное, в этом с Марой нельзя не согласиться, и уже пора бы попасть ему в хорошие руки. Конечно, желания Мары легче осуществимы, чем желания Дорион, и они больше совпадают с его собственными. Итак, он решился. Он предоставит Павла Дорион, а сам займется воспитанием Симона; может быть, если мальчик оправдает его надежды, Иосиф возьмет его к себе в дом. Это ему кажется удачным разрешением вопроса, оно всех удовлетворит. Даже иудеи столицы примирятся с его греческим сыном, если он предъявит им своего сына-иудея. С Дорион он о своем намерении еще не говорил. Но какие у нее могут быть возражения? Он улыбнулся расчетливо, с добродушным цинизмом. Он подарил ей виллу, она у него в долгу. Так великодушие само несет в себе награду.
Хвастливо, в своей блестящей парадной одежде, предстает он пред Марой. Мара восхищена; даже Симон, несмотря на весь свой критицизм, деловито констатирует, что Иосиф выглядит замечательно.
Собственно говоря, Иосиф предполагал сначала договориться с Дорион относительно своего плана. Но он в хорошем настроении, и ему хочется дарить радость. Мара может совсем остаться в Риме, возвещает он милостиво, мальчика он устроит у высокопоставленных друзей, позднее, может быть, даже возьмет к себе.
Обычно Мара соображает очень медленно, но сейчас, когда речь идет о ее мальчике, она понимает сразу, какую резкую перемену в ее жизнь внесет решение Иосифа. Если ее сын будет воспитываться у друзей Иосифа или даже в его доме – это значит, что ей придется с Симоном расстаться. Тогда ей, вероятно, очень редко удастся видеться с ним. Ее господин и повелитель Иосиф очень мудр. Но разве она, мать, не знает о мальчике многое из того, чего не знает Иосиф? И не забудет ли Симон добрые старинные обычаи? Все же она счастлива. Ее Симон-Яники завоевал сердце отца, он станет таким же великим человеком, как и тот, пусть даже не богословом и не мудрецом во Израиле. Она целует руку Иосифа, она велит мальчику поцеловать ему руку, она смиренна, горда, счастлива.
Иосиф решает в этот великий день, когда он согласился на постройку виллы, уладить вопрос и с закладкой синагоги. Он сообщает доктору Лицинию, что хочет участвовать в постройке новой синагоги. Лициний искренне обрадован. Тактично, чтобы не задеть Иосифа, приступает он к финансовому вопросу. Синагога Иосифа не будет особенно роскошной. Ориентировочно, – это ни к чему не обязывает, – набрасывает он смету в миллион семьсот тысяч сестерциев. Иосиф испуган. Больше двухсот тысяч он не в состоянии дать на это дело, и может ли он согласиться, чтобы при таком ничтожном взносе синагога называлась его именем? Лициний не дает ему слова вымолвить, продолжает говорить. Он предлагает Иосифу поделить расходы следующим образом: Иосиф жертвует семьдесят драгоценных свитков, спасенных им при разрушении Иерусалима, Лициний оценивает их примерно в семьсот тысяч сестерциев. Тогда Иосифу останется добавить только каких-нибудь сто пятьдесят тысяч наличными. Ведь эти свитки торы явятся существеннейшей частью нового дома божия. Если же вместилище, то есть само здание, обойдется дороже, чем предположено, то это уже дело Лициния и его друзей внести излишек.
Какое великодушное предложение, какой счастливый сегодня день! Иосиф почти не в силах скрыть свою радость, – там, в храме Мира, стоит перед глазами римлян его бюст, а перед глазами иудеев его синагога примирит с ним невидимого бога.
С гордостью, многословно, рассказывала Дорион своему отцу, придворному живописцу Фабуллу, что Иосиф наконец-то дал согласие на постройку виллы в Альбане. Массивный старик сидел очень прямо, по своему обыкновению, особенно изысканно одетый; к нему, как к живописцу-профессионалу, относились в обществе с пренебрежением, и поэтому он тем более старался иметь корректный, истинно римский вид. Когда Дорион, к которой он был страстно привязан, в свое время стала женой еврея, этот удар поразил его в самое сердце. С тех пор он сделался еще суровее и молчаливее.
И вот Дорион, оживленная, счастливая, тонким детским голосом хвасталась тем, как ловко она все устроила. Уже несколько лет назад сговорилась она с архитектором Гровием относительно необычайно дешевой цены за участок и за постройку. Нелегко было все эти годы удержать Гровия при его решении. Но ей это удалось. И даже теперь, после пожара, хотя цены растут буквально не по дням, а по часам, архитектор остается верен своему слову.
Фабулл слушал с непроницаемым видом. Вначале, сейчас же после замужества Дорион, он не испытывал по отношению к этому еврею, негодяю, псу, которому его дочь так постыдно отдалась, ничего, кроме ненависти и презрения. То, что Иосиф был к тому же писателем, еще усиливало эту ненависть; Фабулл знать не хотел о литературе, он был озлоблен тем, что Рим ценил писателей, а не художников. Однако он был великим портретистом, привыкшим читать по лицам людей; он многое прочел по лицу Иосифа о его сущности и судьбе, он не смог скрыть от себя значительность этого человека, и с годами между ними произошло как бы примиренце. Постепенно в живописце Фабулле росло даже особое, полное ненависти, восхищение. Этот Иосиф изображал в своей книге людей, ландшафты, события так живописно, словно смотрел на них взором художника; при этом он ненавидел всякую живопись. В конце концов, Иосиф стал внушать Фабуллу даже какой-то страх: этот человек, видимо, обладал магической силой. Он околдовал не только его дочь, но и старого императора и молодого. И ему просто навязали общественное признание, которого так мучительно недостает Фабуллу. Гнев его еще возрос, когда он узнал от скульптора Василия, что Иосиф отклонил его предложение – поручить Фабуллу раскраску цоколя для Иосифова бюста. Его славе этот отказ повредить не мог. Фабулл считался первым живописцем эпохи. Но вся его неразумная злоба против зятя снова проснулась при этом сообщении.
Когда дочь рассказала ему о новой удаче Иосифа и о том, что теперь его богатство позволяет ему подарить ей долгожданную виллу, злоба художника удвоилась. Сам он был человек состоятельный и отнюдь не скупой, он охотно подарил бы загородный дом своей дочери, которую любил, и не сделал этого, только желая показать си, что Иосифу, несмотря на его кажущийся блеск, не хватает самого существенного. Мысль, что ей приходится за свою любовь к этому человеку хоть чем-то платиться, давала ему некоторое удовлетворение.
С привычной молчаливостью слушал он ее длинный радостный рассказ. Он подумал, что в одном, по крайней мере, его Дорион отказала этому человеку – она не дала ему превратить своего сына Павла в еврея. Это служило ему утешением. Внук окажется таким же бесправным, как и он сам, его поведение и взгляды будут такими же строго римскими, и он будет так же проникнут греческой культурой. Однако эта мысль мало способствовала смягчению его злобы. Но когда Дорион обхватила наконец руками его торжественную голову и прошептала: «Я так рада, папочка, что ты наконец напишешь для меня «Упущенные возможности», – старик осторожно, но решительно высвободился из ее милых рук и своим очень мужественным голосом коротко заявил:
– Мне жаль, Дорион, но я для твоего еврея фресок делать не стану.
Дорион, обиженная, возмущенная, спросила с удивлением:
– Что это значит? Ты же мне обещал? Ведь уговорить Иосифа было нелегко.
– Охотно верю, – отозвался с ненавистью старик. – Вот почему я этого и не хочу. Император не так разборчив, как твой еврей, – продолжал он. – Император поручил мне расписать большой зал Новых бань[34 - Новые бани – гигантские термы (бани) Тита рядом с упоминаемым ниже Амфитеатром Флавиев.]. Я думаю, что «Упущенные возможности» найдут там более компетентных и, уж во всяком случае, более благосклонных, зрителей, чем в загородном доме Иосифа Флавия.
– Но ты ставишь меня в смешное положение, – вскипела Дорион, – а я-то перед ним из кожи лезла! Ты еще никогда не нарушал своего слова, – упрашивала она.
– Ситуация изменилась, – возразил Фабулл. – Иосиф Флавий решительно отклонил мою работу. Когда скульптор Василий предложил, чтобы я расписал цоколь, он отказался.
Дорион замолчала, удивленная, – об этом она ничего не знала. А ее отец продолжал:
– Ты боишься оказаться в смешном положении перед ним, – заметил он иронически. – Он же ставил себя в смешное положение перед целым миром, и сколько раз… Он дал себя высечь, расхаживал в цепях раба. И если даже они поставили его бюст в библиотеке, он остается смешным, он остается замаранным. Он – собака, отброс.
Никогда еще не приходилось Дорион слышать из уст отца столь несдержанные речи. На миг она была готова признать его правоту, но сейчас, когда все это хлынуло из него, ее чувства изменились. Десять лет назад, сообщив ему о своем решении сойтись с евреем, она ждала от него жестких, насмешливых слов, но он ничего не сказал, он сжал губы так, что они вытянулись в нитку, его глаза непомерно округлились и выступили из орбит; ей было очень тяжело, и она поспешила уйти из дому, к Иосифу. Отец тогда промолчал, он продолжал молчать, и она была крайне поражена, что теперь, спустя десять лет, он вдруг заговорил.
Сперва она, обычно столь находчивая, от удивления не знала, что ответить. Затем мысленно увидела бюст, стоявший в почетном зале, его бледное благородное поблескивание, загадочное сияние вокруг головы Иосифа, услышала праздничный шум чествования, и ее изумление обратилось в негодование.
– Я не позволю оскорблять его, – вскипела она. – Даже тебе. Он – собака? Он – отброс? Ему дана власть судить мертвых, – продолжала она своим тонким голосом. Это звучало довольно нелепо, она сама смеялась, когда Иосиф этим хвалился, но теперь она повторяла его слова, и ее глаза светились буйно, экстатично. – Он судит живых и мертвых. Ему дана власть. Он – Гермес с птичьей головой, возвещающий приговор по своей табличке.
Она была почти рада, что упреки отца, столь долго таимые и все накоплявшиеся, теперь наконец нашли выход в словах и она может против них защищаться.
А он продолжал говорить, продолжал браниться – жестко, грубо, точно конюх. Он жалел, что дал себе волю. Он любил свою дочь, любил за ее мать-египтянку, за ее художественное чутье, за ее сына, которого она воспитывала в его духе. Он знал, что с каждым словом все больше отталкивает ее от себя, и сам страдал от своих слов: совсем не в его натуре говорить так жестко и грубо. Но когда он вспоминал этого человека, негодяя, этого пса, то терял всякую власть над собой, забывался и говорил больше, чем хотел сказать. Все, что он так долго носил в себе, вырвалось наружу, грязно, низменно, вульгарно.
Лицо Дорион побледнело, как всегда, сначала вокруг губ, потом побелели и щеки. Неужели это ее отец, к которому она так привязана, ходит взад и вперед по комнате и так гадко бранится и ругается, он – величайший художник эпохи? Один раз ей уже пришлось выбирать между ним и Иосифом, и она выбрала мужа. Затем все уладилось, у нее были и муж и отец, и она так радовалась, что в доме, который ей подарил муж, с ней будет одновременно и лучшее произведение отца – трогательные и насмешливые «Упущенные возможности». И вот все кончилось дикой, грубой руганью. Но тут ничего не поможет, она тоже не в состоянии сдержать себя.
– Уходи, – вдруг прервала она его тонким, пронзительным голосом; лицо ее было теперь без кровинки, некрасивое, искаженное. – Уходи, – повторила она. – И пиши свою картину для кого хочешь, для императора или для римской черни.
Фабулл сидел, сжав рот, выкатив глаза, как десять лет назад, когда она впервые сказала ему о своей связи с евреем. И он опять молчал, как тогда. Ей очень хотелось, чтобы он сказал хоть одно слово, которое прозвучало бы как раскаяние или как извинение. Но он ничего не сказал, ничего не взял обратно. Фабулл просто сидел, может быть, чуть-чуть, совсем незаметно, он покачнулся. Его молчание кольцом ложилось вокруг нее и так сжимало, что все тело ломило. Но она тоже не взяла своих слов обратно, и когда он наконец поднялся, она не стала его удерживать. Он ушел, слегка пошатываясь, не такой прямой, как обычно.
Вот в каком состоянии была Дорион, когда Иосиф пришел к ней, чтобы сообщить о своих намерениях относительно Симона. Он выбирал пустые, безразличные слова. В глубине души он гордился своей идеей, и ему не приходило в голову, что у Дорион могут возникнуть серьезные возражения.
Пока он говорил, ее смугло-бледное лицо оставалось неподвижным. От своих друзей она знала о присутствии в Риме первой жены Иосифа: над провинциалкой посмеивались, – дескать, грех молодости, – Дорион сама посмеялась и скоро забыла об этой истории. Сейчас, пока Иосиф говорил, дело представилось ей в другом свете. Она все принесла в жертву Иосифу, а он принимал это как нечто вполне естественное и подвергал ее новым и новым унижениям. Теперь он пожелал приравнять этого ублюдка от провинциальной мещанки к ее Павлу, привести его к ней в дом. Неужели он так туп, что не понимает, чего от нее требует? Или, несмотря на все, его связывают с его первой женой более прочные нити? Ей рассказывали, что эта женщина – глупая, толстая еврейка, ничтожество; но кто знает, что приковывает к ней этого странного человека? Еврей остается евреем, еврея тянет к еврейке, как волка к волчице и кобеля к сучке. А она только вчера так горячо защищала его перед отцом, защищала зубами и ногтями; ради мужа выгнала от себя отца, единственного человека, которого она любит. И вот что он предлагает ей взамен отца, – своего байстрюка. Но она обуздала поднимавшиеся в ней злобу и горечь, не высказала ничего, она только заявила жестким, тонким голосом: