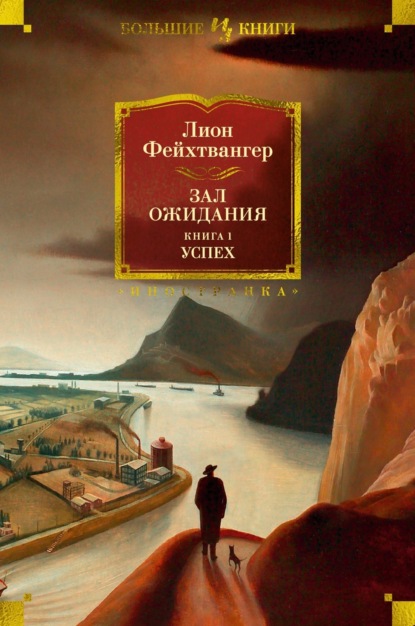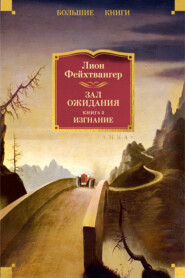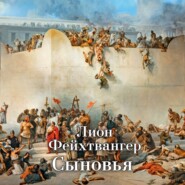По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зал ожидания. Книга 1. Успех
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сунула руку в карман и не нащупала в нем письма. Стянула перчатку, снова порылась в кармане. Письма не было – она потеряла его. Неприятно было сознавать, что письмо Мартина Крюгера валяется где-то в снегу. Должно быть, она обронила его в лесу. Надо поискать. Возможно, что ей удастся найти его, вернувшись по своим же следам. Правда, солнце уже садится, скоро все окутает густой туман. Мартину Крюгеру не часто разрешается писать. Для него разрешение писать – целое событие.
Из леса показалась какая-то фигура. Мужчина, массивный, но нельзя сказать чтобы неизящный, в лыжном костюме кофейного цвета. Вот он подъехал ближе, остановился, глядя на нее подернутыми поволокой глазами; улыбаясь, стянул теплую, шерстяную, покрытую сосульками перчатку, протянул руку, сказал: «Здравствуйте».
Да, Пауль Гессрейтер приехал раньше, чем собирался. Вероятно, с его стороны было легкомыслием оставить без надзора свой керамический завод сейчас, в период инфляции, когда ежечасно нужно было следить за колебанием закупочных и продажных цен. Но это ему теперь совершенно безразлично. Раз она уже целую неделю здесь, то и он вовсе не намерен был дольше терять время. В гостинице ему сказали, что она уехала в Гохэк. Он звонил туда по телефону и, не застав ее там, просто-напросто покатил вслед за ней в горы. Ну разве он не молодчина, что почуял, где она, и выбрал дорогу через лес?
Человек в кофейном костюме был весел, как мальчишка, и болтал без умолку. Так вот – в одном поезде с ним приехала целая компания: Пфаундлер, художник Грейдерер, а также и Рейндль, Пятый евангелист. Несимпатичный субъект, кстати сказать, препротивный! – кисло добавил он. Через несколько дней приедет и г-жа фон Радольная. Говорила ли уже Иоганна с министром юстиции Гейнродтом? Ну, это Гейер устроит. Иоганна как можно скорее должна сходить с ним в «Пудреницу» – это новое пфаундлеровское увеселительное заведение. Через два-три дня здесь прохода не будет от знакомых. В нынешнем году он только два раза ходил на лыжах. С этой дурацкой инфляцией решительно ничего не успеваешь. Доллар стоит уже сто девяносто три пятьдесят. Кстати, он недаром катил по ее следу: он кое-что нашел. Поставив одну лыжу ребром, он изящным жестом руки в заиндевевшей перчатке протянул ей письмо из Одельсберга.
Иоганна взяла письмо, поблагодарила. Вскрыла конверт. Прочла. Три бороздки прорезали ее лоб. Мрачно глядели ее серые глаза, когда она рвала письмо Мартина Крюгера. Сотни мелких лоскутков бумаги, разлетаясь, казались грязными и ненужными на широкой белой снеговой поверхности.
– Едем! – сказала Иоганна.
Позже, в ванне, смывая чувство тяжести от грубой теплой одежды, она обдумывала написанное Крюгером – разобрала все, фразу за фразой. Как он ломался, как он хотел, чтобы ему навязывали то, к чему он сам стремился! Она надеялась, что хоть в камере он бросит рисовку. А он пишет такое вот письмо! Теперь оно, разорванное на сотню мелких лоскутков, валяется в снегу.
Легко здесь, в удобной комнате гостиницы в Гармише, критиковать письмо, написанное в Одельсберге, где за окном шесть замурованных между стен деревьев. Легко предъявлять требования человеку с серым лицом, когда сам имеешь возможность ухаживать за собой, хорошо питаться, наслаждаться солнцем и снегом.
Она сидела перед туалетным столиком, подтачивая, полируя ногти. Видно было, что они еще недавно были запущены, но скоро станут миндалевидными и будут отливать молочным блеском.
За обедом тетка своим громким голосом сообщила ей о появившейся в американском журнале подробной статье, посвященной делу Крюгера. Г-жа Франциска Аметсридер была благоразумная женщина и крепко стояла в жизни на своих коротких энергичных ногах. Участие ее в борьбе Иоганны, правда, ограничивалось сочными афоризмами общего, поучительного характера. Все же она производила импонирующее впечатление своим полным, плотным телом и ясными, смелыми глазами, когда, наклонив вперед огромную мужеподобную голову с коротко подстриженными черными волосами, сообщала какому-нибудь интервьюеру подробности дела Крюгера и Иоганны Крайн, перемешивая свою речь здравыми сентенциями и красочными характеристиками баварских политических деятелей и журналистов.
Теперь она желала побеседовать с Иоганной. Ограничиваясь общими местами, она заговорила о склонности света делать сопоставления морального порядка там, где они, в сущности, вовсе не к месту. Например, хотя бы между роскошной жизнью Иоганны в обстановке гармишской зимы и арестантскими буднями в Одельсберге.
Иоганна не мешала ей говорить, слушала довольно вежливо и без всякой досады. Она часто теперь беседовала с тетушкой Аметсридер, терпеливо вдаваясь во всякие мелкие подробности. Все же о своих приготовлениях к венчанию с Мартином Крюгером она не сказала тетке ни слова.
11. «Пудреница»
Директор Пфаундлер провел г-на Гессрейтера и фрейлейн Крайн по всем помещениям «Пудреницы», хвастая тем, с какой ловкостью использован каждый уголок, как хитро всюду устроены скрытые от глаз ниши, ложи, «укромные уголки», как он их называл. Ему немало пришлось повоевать с художниками – Грейдерером и автором серии «Бой быков», пока они не согласились устроить эти «укромные уголки» так, как он хотел. Они и против такого количества облицовочных плиток возражали, эти дурни. Хотели, чтобы все было изящно, нежно, как подобало для восемнадцатого века. «Прекрасно, – говорил им Пфаундлер, – разумеется, „Пудреница“. Ясно! Но ведь главное в конце концов – это уют! Ну а теперь, когда все готово, скажите-ка сами, сударь вы мой, разве эти господа художники не имели такого же основания быть довольными, как и хозяин предприятия? „Пудреница“, восемнадцатый век – и в то же время уютно!» По-дедовски изящно скользили ноги по желтоватым и голубым плиткам – изделиям гессрейтерского завода. Создавая настроение, манили гостей «укромные уголки». Тут у чопорной иностранной публики неизбежно должны были раскрыться сердца.
И сердца раскрывались. Все места были заняты. Казалось, все приезжающие в Гармиш проводят вечера в «Пудренице».
Сейчас здесь исполнялась тщательно подобранная эстрадная программа. Г-н Пфаундлер провел своих мюнхенских друзей на особенно удобные места, указал им «укромный уголок», из которого они могли, оставаясь почти незамеченными, видеть все. Иоганна сидела рядом с г-ном Гессрейтером, почти не разговаривая. Медленным взглядом обводила она разодетых людей, болтавших на самых разнообразных языках о всевозможных мелких, незначительных приятных вещах. Ее внимание особенно привлекла худощавая женщина с нервным, оливкового цвета лицом и орлиным носом. Очевидно, она знала многих из присутствовавших в зале, для многих у нее наготове были веселые замечания, она часто подносила к уху трубку своего настольного телефона, но на Иоганну не глядела. Иоганна между тем не сводила с нее глаз и однажды заметила, как женщина на мгновение, считая, что никто не наблюдает за ней, вдруг до ужаса вся изменилась. Оживленное, умное лицо ее внезапно посерело, стало безнадежно усталым, похожим на лицо глубокой старухи. Эта худая дама, как объяснил господин Пфаундлер, была знаменитой чемпионкой по теннису Фенси де Лукка. Да, г-н Гессрейтер сразу узнал ее. Он видел однажды де Лукка во время игры. Изумительно, по его словам, это тренированное, напряженное тело в момент прыжка! Она, вот уже два года, чемпионка Италии. Но многие ждут, когда она уступит свое место; долго ей своего первенства не удержать.
Телефон на столе Иоганны зазвонил. Ее приветствовал художник Грейдерер. Она не видела его. Он подробно объяснил ей, где расположен его столик. Да, там действительно сидел художник, создавший «Распятие», среди шумной группы дешевого пошиба девиц и, глядя на Иоганну, пил за ее здоровье. Он имел в смокинге очень странный вид. Добродушную, крепкую крестьянскую голову подпирал белый воротничок, руки как-то нелепо высовывались из белых манжет. Затем он по телефону сказал что-то Гессрейтеру. Иоганна видела, как подмигивают его хитрые глазки и как хохочут дешевого пошиба девицы. Нет, ему успех не пошел впрок. Гессрейтер считал, что он явно опускается в кругу «зайчат», как Грейдерер называл своих дешевых девиц. Пфаундлер заметил, что придворный штат художника Грейдерера и его мамаши обходится недешево. Господин художник умеет набивать себе цену. Ему, Пфаундлеру, тоже пришлось выложить Грейдереру немалый куш. Но во-первых, сейчас инфляция, а во-вторых, слава художника – это такая штука, которую он бы не принял в обеспечение долга. «Инфляция, впрочем, не будет тянуться до бесконечности», – туманно добавил он.
Над переносицей Иоганны обозначились три вертикальные бороздки. Разве сама она не жила здесь, в Гармише, не по средствам? С тех пор как она зарабатывала больше, чем на самое необходимое, она уж не рассчитывала боязливо расходов, но никогда в то же время особенно не швыряла деньгами. Сейчас ей нужны были деньги, которые можно было бы тратить не считая. В то время как во всей остальной Германии гибли от голода, здесь, в Гармише, наслаждались излишеством и изобилием. Здесь жили главным образом иностранцы, которые благодаря инфляции могли, в сущности за гроши, купаться в роскоши. Никто не спрашивал о ценах. Только тетка Аметсридер мрачно покачивала своей огромной мужеподобной головой и в сильных выражениях предсказывала грядущую катастрофу. Что останется делать Иоганне, когда до конца будет исчерпан ее текущий счет в банке? Просить денег у Гессрейтера? Она сбоку поглядела на г-на Гессрейтера, который сидел рядом с ней, спокойный, веселый, медленно отбивая пальцами такт музыки. Очень трудно так вот, ни с того ни с сего, попросить у человека денег. Она еще никогда не пыталась это делать. Г-н Гессрейтер поглядел на Иоганну своими подернутыми поволокой глазами. Он указал ей на человека, изощрявшегося сейчас на эстраде. Это был своего рода музыкальный клоун. Он остроумно и зло искажал знакомые музыкальные мотивы. «Когда-то, – с насмешкой пояснил Пфаундлер, – этот человек был революционером в своей области. Его программой была автономия художника-исполнителя. Он утверждал, что для настоящего артиста оригинал – то есть в данном случае произведение композитора – лишь сырой материал, из которого он имеет право создать все, к чему он чувствует себя призванным. Его своеобразная, вызывавшая споры интерпретация классической музыки пользовалась огромным успехом у одних и вызывала бешеные нападки других. Затем он постепенно надоел публике. А теперь вот, – закончил Пфаундлер, – он стал артистом кабаре – и хорошо сделал!»
Не будучи очень музыкальной, Иоганна рассеянно прислушивалась к изощрениям человека на эстраде. Ей казалось, что на нее обращают больше внимания, чем в начале вечера. Она вскользь сказала об этом Гессрейтеру. Тот ответил, что давно уже наблюдает за художником Грейдерером и видит, как тот таскается от столика к столику, разнося по залу подробности истории Иоганны Крайн. Все чаще взгляды обращались к укромному уголку, где она сидела.
Снова зазвонил ее настольный телефон. Голос в трубке просил Иоганну взглянуть в сторону ложи Фенси де Лукка. Красивым жестом смуглая женщина подняла бокал. Ее лицо озарилось ярким, теплым светом. Так, на глазах всего зала, следившего за ее жестом внимательнее, чем за происходившим на сцене, Фенси де Лукка, не сводя с Иоганны своих темных мятежных глаз, выпила за ее здоровье. Иоганна вспыхнула от радости. Ее серые глаза засветились в ответ благодарностью к знаменитой итальянке, так подчеркнуто выражавшей сочувствие ей, никому не известной, и ее делу.
Но вот зал, впервые за весь вечер, погрузился во тьму. На эстраде появилась Инсарова. Это было первое выступление танцовщицы перед действительно требовательной публикой. Болтовня Пфаундлера должна была, разумеется, служить лишь рекламой. Он выкопал эту Инсарову в каком-то невзрачном кабачке в Берлине, в районе Фридрихштадт, где она подвизалась в качестве шансонетки. Сейчас он со страстным интересом проверял, оправдается ли его чутье, жадными мышиными глазками наблюдал за производимым ею впечатлением. Ее худощавое покорное тело без особых претензий на искусство скользило по эстраде, слегка раскосые глаза беспомощно, нагло и фамильярно ласкали зрителей. В обычно бесцеремонно-шумном зале стало тихо. Англосаксы сидели выпрямившись, один из них, собиравшийся набить трубку, отложил ее в сторону. Инсарова разыгрывала какую-то несложную пантомиму, сентиментально и бесстыдно, как показалось Иоганне, пожалуй даже глуповато, во всяком случае банально. Маленькая эстрада была теперь вся погружена в темноту. Прожектор выделял танцовщицу из мрака, выхватывая также небольшой сектор зрительного зала, в сторону которого актриса внезапно повернулась, танцуя. По залу пробежало беспокойство. Все глядели в сторону, освещенную прожектором. Там, выделенный из мрака снопом лучей, сидел слащавого вида молодой человек, безусловно не актер, один из их среды, из публики. Да, не могло быть сомнений – для него плясало это тоненькое, возбуждавшее желания существо там на эстраде, на него глядели ее влажные, слегка раскосые глаза, для него изгибались ее покорные члены. Беспокойство возрастало. Слащавый юноша сидел все так же невозмутимо, потягивая свое питье. Неужели он не замечал глядевших на него из мрака завистливо-любопытных глаз? Худенькую женщину на эстраде охватывала все более страстная покорность, ее щеки западали, придавая лицу что-то детское, ее пляска с обнаженной, бесстыдной, зовущей мольбой тянулась к неподвижному человеку за столиком. В конце концов она без сознания упала на пол. Легкие вскрики женщин. Мужчины приподымаются, музыка умолкает. Занавес, однако, не опускается. После нескольких полных напряжения, волнующих мгновений женщина с улыбкой поднимается с пола, пляшет так же чувственно и бесстыдно, как и вначале, обнажая мелкие влажные зубы, кажется юной и хорошенькой; слегка раскосые глаза беспомощно, нагло и фамильярно ласкают зрителей. Еще несколько тактов, и она кончает. Молчание, затем отдельные свистки, затем – гром бешеных рукоплесканий.
– Рискованная штука! – говорит г-н Гессрейтер.
Пфаундлер с удовлетворением фыркает, прощается, улыбаясь. Он очень гордился своим чутьем. Если (что случалось очень редко) нюх, его главное дарование, обманывал Пфаундлера, то это огорчало его больше, чем потеря денег. Сегодня пример Инсаровой доказал, что нюх у него тонкий.
Не успел он отойти, как г-н Гессрейтер неожиданно спросил:
– Правда ли, что вы выходите замуж за доктора Крюгера?
При этом он не глядит на Иоганну. Его темные глаза устремлены куда-то в зрительный зал, полные холеные руки играют стаканом. Иоганна не отвечает. Лучи света отражаются в ее блестящих ногтях. С непроницаемым видом глядит она в пространство. Г-н Гессрейтер не знает даже, слышала ли она его вопрос. Нет, это не так: он, конечно, знает, что она слышала. Знает также, что эта высокая девушка интересует его больше, чем он этого желал бы. Он не хочет себе в этом признаться. Он и не думает позволить проснуться в себе таким чувствам. Такой бонвиван, как он, занят совсем иными вещами, и, обращаясь к Иоганне, он отпускает циничное замечание по адресу одной из голых девиц, выступающих сейчас на пфаундлеровской эстраде.
Иоганна все с тем же непроницаемым лицом заявляет, что устала. Но в то время как г-н Гессрейтер, слегка задетый этими словами, предлагает проводить ее домой, подоспевший откуда-то Пфаундлер настаивает, чтобы они еще посмотрели игорные залы и прежде всего «интимный зал» во время игры. Он просит их, заклинает, пока наконец Иоганна не сдается.
В «интимном зале» г-н Гессрейтер быстро отыскал для себя и Иоганны хорошие места. Поставил большую сумму. Проиграл. При ближайшем удобном случае поставил снова. Сказал, глядя на руки банкомета:
– Итак, вы выходите за Крюгера. Странно.
Он продолжал играть задумчиво, меланхолически, сильно рискуя. Много проиграл. Предложил Иоганне принять участие в его игре. Иоганна сидела рядом, не испытывая интереса к игре, которой не понимала. Она думала о том, что это большие деньги, что на них можно было бы много недель прожить в Гармише. Неожиданно за ее спиной оказалась Инсарова, поздоровалась с ни на чем не основанной сердечностью, горячо стала советовать Иоганне принять участие в игре Гессрейтера. Гессрейтер поставил сразу целую груду игральных марок, пробормотав, что это для Иоганны. Иоганна рассеянно глядела на лица игроков, на пухлые руки Гессрейтера, на нервный, выразительный профиль Инсаровой, наклонившейся к ней, сопровождавшей игру Гессрейтера восторженными восклицаниями и обнажавшей при этом мелкие влажные зубы.
Иоганна не следила за игрой. Ей казалось, что Гессрейтер в большом проигрыше. Внезапно он заявил, что теперь довольно – игра, по-видимому, ей наскучила. Он пододвинул к Иоганне большую пачку кредиток и марок, пояснив, что это ее доля. Иоганна взглянула на него, удивленная. Инсарова, резко побледнев, переводила взгляд с одного на другого. Куча денег, лежавшая перед Иоганной, представляла собой значительную сумму. Даже в том случае, если ей еще на месяцы будет запрещено заниматься своей профессией и как бы дорого ни обошлось пребывание в Гармише, ее текущий счет не так-то скоро будет исчерпан. Она взглянула на Гессрейтера. Тот стоял с подчеркнуто безразличным видом, держа остаток денег в руках. Его баки чуть-чуть вздрагивали. Он определенно нравился Иоганне – он умел красиво давать деньги.
Затем он проводил ее до гостиницы. Идти было недалеко. Была ясная морозная ночь.
Инсарова, стоя у окна игрального зала, глядела им вслед. Она казалась осунувшейся, усталой. Около нее стоял Пфаундлер, в чем-то ее убеждая. Взгляд его крохотных мышиных глазок под шишковатым черепом неустанно скользил по ее худенькому телу.
Навстречу Иоганне и Гессрейтеру шел человек. Бесформенный в своей толстой шубе, он шел, не глядя по сторонам, один в эту светлую, снежную ночь, и походка его казалась неестественно легкой при его массивной фигуре.
– Пятый евангелист! – сердито прошептал г-н Гессрейтер. – Заваривает здесь какую-то подлую кашу с одним из рурских угольных божков!
При слабом свете Иоганна смутно разглядела над темно-коричневой шубой мясистое лицо, верхнюю губу и густые, выпуклые черные усы. Г-н Гессрейтер неуверенно поднял руку к шляпе, как будто собираясь поклониться. Но прохожий не заметил его или не узнал, и г-н Гессрейтер воздержался от поклона.
Молча прошел он с Иоганной остаток пути.
– Итак, вы выходите замуж за Крюгера, – проговорил он наконец. – Странно, странно.
12. Живая стена Тамерлана
Иоганна Крайн в сопровождении адвоката Гейера отправилась к имперскому министру юстиции Гейнродту, ненадолго прибывшему в Гармиш для отдыха. Доктор Гейнродт остановился не в одном из больших, шикарных отелей Гармиша, а в недорогом и простом пансионе «Альпийская роза» в конце главной улицы, тянувшейся через оба сливающиеся вместе поселка – Гармиш и Партенкирхен.
Министр юстиции принял своих гостей в небольшом кафе, принадлежащем пансиону «Альпийская роза». Это был прокопченный табачным дымом зал с круглыми мраморными столиками и плюшевыми диванами вдоль стен, жарко отапливаемый большой изразцовой печью. По стенам тянулись гирлянды альпийских роз. Над ними в бесчисленном повторении плясали, ударяя себя по ляжкам, парни в зеленых шляпах и девушки в широких юбках и узких корсажах. За мраморными столиками сидели мелкие буржуа в нескладной зимней одежде – в шалях, охотничьих куртках, крылатках, – макая в кофе жирное пирожное. Доктор Гейнродт был приветливый господин в очках, с добродушной окладистой бородой. Он любил, когда поражались его сходством с известным индийским писателем Тагором. Он долго и мягко глядел своим гостям в глаза, помог Иоганне снять жакет, дружески похлопал Гейера по плечу. Затем они устроились за одним из круглых столиков в углу на бархатном диване; беседуя, пили кофе. Кругом сидели другие посетители, которые, стоило им только напрячь слух, могли слышать каждое слово.
Иоганна была молчалива, больше говорил адвокат, доктор Гейер, а больше всех – министр юстиции. Он проявил себя человеком удивительной начитанности, читал большинство книг доктора Крюгера, очень его ценил, бесконечно скорбел об его участи. Он вполне готов был допустить, что Мартин Крюгер невиновен. Но министр обладал широким кругозором и был склонен к обобщениям, в которых затем безнадежно увязал. Иоганна устала. Ее до тошноты раздражала эта бездейственная, все понимающая кротость. Из тончайших и остроумных рассуждений министра она успела уловить лишь, что мыслимы случаи, когда по отношению к человеку во имя права приходится совершать несправедливость, что власть, опирающаяся на успех, сама создает право и что в конце концов порою бывает гораздо важнее сам факт существования какого-то спора, чем его исход.
В небольшом зале было нестерпимо жарко. Входили и выходили люди. Альпийские розы с девушками в широких юбках и парнями в зеленых шляпах вились вдоль стен. Звенели кофейные чашки. Седая кроткая борода министра поднималась и опускалась, его глаза, глаза доброго дядюшки, благожелательно останавливались на смуглом широком лице Иоганны, понимали и прощали неугомонного мученика Гейера, молчаливость и досаду Иоганны, медленное обслуживание гостей в маленькой кондитерской, всю жизнь этого свежего, роскошного зимнего курорта посреди обнищавшей части света.
Адвокат и министр вели оживленный остроумный спор по вопросам философии права. Беседа давно уже уклонилась в сторону от вопроса о докторе Крюгере. Просто два свободомыслящих юриста разыгрывали перед случайной зрительницей интересный турнир. Какая-то странная скованность охватывала Иоганну от этого рокового всепрощения кроткого старца, который с самыми добрыми намерениями гнуснейшие судебные решения топил в море многословного понимания, несправедливые, бесчеловечные приговоры укутывал в вату своей благожелательной философии.
Иоганна многого ждала от этой встречи с министром юстиции, о человеколюбии которого всюду говорили. Его присутствие здесь и послужило для нее одним из главных поводов поездки в Гармиш. И вот она сидит в этом жалко убранном душном зале, где после живительного свежего воздуха человека охватывает вялая лень и все начинает казаться мрачным и безнадежным. Какой-то старичок макает в кофе пирожное и говорит, другой человек, более молодой и нервный, занятый тысячью других вопросов, тоже говорит, а Мартин Крюгер в это время сидит в камере – четыре метра в длину и два в ширину, – и его счастливейший час в течение дня – это час, проводимый среди шести замурованных деревьев.
Плечи Иоганны опустились. Чего ради сидит она здесь, с этими людьми? Чего ради сидит она в Гармише? Все это было совершенно бессмысленно. Смысл имело, быть может, уехать в деревню, работать в поле, родить ребенка. Министр настроился между тем поэтически. Его монотонный, поучающий голос вещал:
– Диктатор Тамерлан в стену, окружавшую его владения, замуровывал живых людей. Стена права достойна таких человеческих жертв!
Но вот адвокат Гейер перешел в решительное наступление. Он был в ударе. Его зоркие, настойчивые голубые глаза не отпускали собеседника, его голос, не слишком громкий (чтобы не привлечь внимания окружающих), звучал твердо и убедительно. Он говорил о бесчисленных мертвецах – жертвах мюнхенских судебных процессов, о расстрелянных и заточенных в тюрьмы, об осужденных за убийство, но убийства на самом деле не совершавших и о бесчисленных убийцах, не привлекавшихся к ответу за убийство. Он не забыл и о мелких подробностях. Не забыл о мебели, описанной у жены осужденного за какой-то нелепый проступок, – описанной на покрытие очень крупных судебных издержек за время затянувшегося процесса, которых она не могла уплатить. Не забыл и о расходах на казнь расстрелянного по обвинению в государственной измене, возмещения которых сейчас вторично требовали у матери расстрелянного – «уплатить в недельный срок во избежание продажи с торгов имущества».
Одурманенная болтовней старика и царившей в комнате жарой, Иоганна с трудом могла уследить за быстрыми словами адвоката. Странно: второстепенные подробности производили на нее большее впечатление, чем значительные факты. Чудовищно число бессмысленно убитых, с желтым лицом и продырявленной грудью, наспех закопанных ночью в лесу и неотомщенных. Страшны цифры расстрелянных, словно при охотничьей облаве, целыми партиями в каменоломне, брошенных в яму и посыпанных сверху известкой, и неотомщенных. Страшны были убитые, валявшиеся у стены казармы, послужившие мишенью десятку равнодушных ружейных дул, невинные, но убитые во имя права. Но всего омерзительнее спирало дыхание от чиновничьей руки, предъявлявшей матери счет за пули, израсходованные на расстрел сына.
Министр, как ни порицал он приведенные факты, все же готов был понять и их. Под звуки маленького оркестра, состоявшего из скрипки, цитры и гармоники, он и эти «судебные ошибки» влил в общее море понятия права. Необходимо соблюдать автономию судей; без нее нет твердого права. Все же он, Гейнродт, насколько это было возможно без нарушения основных принципов, всегда старался смягчать жестокость приговоров.
Из леса показалась какая-то фигура. Мужчина, массивный, но нельзя сказать чтобы неизящный, в лыжном костюме кофейного цвета. Вот он подъехал ближе, остановился, глядя на нее подернутыми поволокой глазами; улыбаясь, стянул теплую, шерстяную, покрытую сосульками перчатку, протянул руку, сказал: «Здравствуйте».
Да, Пауль Гессрейтер приехал раньше, чем собирался. Вероятно, с его стороны было легкомыслием оставить без надзора свой керамический завод сейчас, в период инфляции, когда ежечасно нужно было следить за колебанием закупочных и продажных цен. Но это ему теперь совершенно безразлично. Раз она уже целую неделю здесь, то и он вовсе не намерен был дольше терять время. В гостинице ему сказали, что она уехала в Гохэк. Он звонил туда по телефону и, не застав ее там, просто-напросто покатил вслед за ней в горы. Ну разве он не молодчина, что почуял, где она, и выбрал дорогу через лес?
Человек в кофейном костюме был весел, как мальчишка, и болтал без умолку. Так вот – в одном поезде с ним приехала целая компания: Пфаундлер, художник Грейдерер, а также и Рейндль, Пятый евангелист. Несимпатичный субъект, кстати сказать, препротивный! – кисло добавил он. Через несколько дней приедет и г-жа фон Радольная. Говорила ли уже Иоганна с министром юстиции Гейнродтом? Ну, это Гейер устроит. Иоганна как можно скорее должна сходить с ним в «Пудреницу» – это новое пфаундлеровское увеселительное заведение. Через два-три дня здесь прохода не будет от знакомых. В нынешнем году он только два раза ходил на лыжах. С этой дурацкой инфляцией решительно ничего не успеваешь. Доллар стоит уже сто девяносто три пятьдесят. Кстати, он недаром катил по ее следу: он кое-что нашел. Поставив одну лыжу ребром, он изящным жестом руки в заиндевевшей перчатке протянул ей письмо из Одельсберга.
Иоганна взяла письмо, поблагодарила. Вскрыла конверт. Прочла. Три бороздки прорезали ее лоб. Мрачно глядели ее серые глаза, когда она рвала письмо Мартина Крюгера. Сотни мелких лоскутков бумаги, разлетаясь, казались грязными и ненужными на широкой белой снеговой поверхности.
– Едем! – сказала Иоганна.
Позже, в ванне, смывая чувство тяжести от грубой теплой одежды, она обдумывала написанное Крюгером – разобрала все, фразу за фразой. Как он ломался, как он хотел, чтобы ему навязывали то, к чему он сам стремился! Она надеялась, что хоть в камере он бросит рисовку. А он пишет такое вот письмо! Теперь оно, разорванное на сотню мелких лоскутков, валяется в снегу.
Легко здесь, в удобной комнате гостиницы в Гармише, критиковать письмо, написанное в Одельсберге, где за окном шесть замурованных между стен деревьев. Легко предъявлять требования человеку с серым лицом, когда сам имеешь возможность ухаживать за собой, хорошо питаться, наслаждаться солнцем и снегом.
Она сидела перед туалетным столиком, подтачивая, полируя ногти. Видно было, что они еще недавно были запущены, но скоро станут миндалевидными и будут отливать молочным блеском.
За обедом тетка своим громким голосом сообщила ей о появившейся в американском журнале подробной статье, посвященной делу Крюгера. Г-жа Франциска Аметсридер была благоразумная женщина и крепко стояла в жизни на своих коротких энергичных ногах. Участие ее в борьбе Иоганны, правда, ограничивалось сочными афоризмами общего, поучительного характера. Все же она производила импонирующее впечатление своим полным, плотным телом и ясными, смелыми глазами, когда, наклонив вперед огромную мужеподобную голову с коротко подстриженными черными волосами, сообщала какому-нибудь интервьюеру подробности дела Крюгера и Иоганны Крайн, перемешивая свою речь здравыми сентенциями и красочными характеристиками баварских политических деятелей и журналистов.
Теперь она желала побеседовать с Иоганной. Ограничиваясь общими местами, она заговорила о склонности света делать сопоставления морального порядка там, где они, в сущности, вовсе не к месту. Например, хотя бы между роскошной жизнью Иоганны в обстановке гармишской зимы и арестантскими буднями в Одельсберге.
Иоганна не мешала ей говорить, слушала довольно вежливо и без всякой досады. Она часто теперь беседовала с тетушкой Аметсридер, терпеливо вдаваясь во всякие мелкие подробности. Все же о своих приготовлениях к венчанию с Мартином Крюгером она не сказала тетке ни слова.
11. «Пудреница»
Директор Пфаундлер провел г-на Гессрейтера и фрейлейн Крайн по всем помещениям «Пудреницы», хвастая тем, с какой ловкостью использован каждый уголок, как хитро всюду устроены скрытые от глаз ниши, ложи, «укромные уголки», как он их называл. Ему немало пришлось повоевать с художниками – Грейдерером и автором серии «Бой быков», пока они не согласились устроить эти «укромные уголки» так, как он хотел. Они и против такого количества облицовочных плиток возражали, эти дурни. Хотели, чтобы все было изящно, нежно, как подобало для восемнадцатого века. «Прекрасно, – говорил им Пфаундлер, – разумеется, „Пудреница“. Ясно! Но ведь главное в конце концов – это уют! Ну а теперь, когда все готово, скажите-ка сами, сударь вы мой, разве эти господа художники не имели такого же основания быть довольными, как и хозяин предприятия? „Пудреница“, восемнадцатый век – и в то же время уютно!» По-дедовски изящно скользили ноги по желтоватым и голубым плиткам – изделиям гессрейтерского завода. Создавая настроение, манили гостей «укромные уголки». Тут у чопорной иностранной публики неизбежно должны были раскрыться сердца.
И сердца раскрывались. Все места были заняты. Казалось, все приезжающие в Гармиш проводят вечера в «Пудренице».
Сейчас здесь исполнялась тщательно подобранная эстрадная программа. Г-н Пфаундлер провел своих мюнхенских друзей на особенно удобные места, указал им «укромный уголок», из которого они могли, оставаясь почти незамеченными, видеть все. Иоганна сидела рядом с г-ном Гессрейтером, почти не разговаривая. Медленным взглядом обводила она разодетых людей, болтавших на самых разнообразных языках о всевозможных мелких, незначительных приятных вещах. Ее внимание особенно привлекла худощавая женщина с нервным, оливкового цвета лицом и орлиным носом. Очевидно, она знала многих из присутствовавших в зале, для многих у нее наготове были веселые замечания, она часто подносила к уху трубку своего настольного телефона, но на Иоганну не глядела. Иоганна между тем не сводила с нее глаз и однажды заметила, как женщина на мгновение, считая, что никто не наблюдает за ней, вдруг до ужаса вся изменилась. Оживленное, умное лицо ее внезапно посерело, стало безнадежно усталым, похожим на лицо глубокой старухи. Эта худая дама, как объяснил господин Пфаундлер, была знаменитой чемпионкой по теннису Фенси де Лукка. Да, г-н Гессрейтер сразу узнал ее. Он видел однажды де Лукка во время игры. Изумительно, по его словам, это тренированное, напряженное тело в момент прыжка! Она, вот уже два года, чемпионка Италии. Но многие ждут, когда она уступит свое место; долго ей своего первенства не удержать.
Телефон на столе Иоганны зазвонил. Ее приветствовал художник Грейдерер. Она не видела его. Он подробно объяснил ей, где расположен его столик. Да, там действительно сидел художник, создавший «Распятие», среди шумной группы дешевого пошиба девиц и, глядя на Иоганну, пил за ее здоровье. Он имел в смокинге очень странный вид. Добродушную, крепкую крестьянскую голову подпирал белый воротничок, руки как-то нелепо высовывались из белых манжет. Затем он по телефону сказал что-то Гессрейтеру. Иоганна видела, как подмигивают его хитрые глазки и как хохочут дешевого пошиба девицы. Нет, ему успех не пошел впрок. Гессрейтер считал, что он явно опускается в кругу «зайчат», как Грейдерер называл своих дешевых девиц. Пфаундлер заметил, что придворный штат художника Грейдерера и его мамаши обходится недешево. Господин художник умеет набивать себе цену. Ему, Пфаундлеру, тоже пришлось выложить Грейдереру немалый куш. Но во-первых, сейчас инфляция, а во-вторых, слава художника – это такая штука, которую он бы не принял в обеспечение долга. «Инфляция, впрочем, не будет тянуться до бесконечности», – туманно добавил он.
Над переносицей Иоганны обозначились три вертикальные бороздки. Разве сама она не жила здесь, в Гармише, не по средствам? С тех пор как она зарабатывала больше, чем на самое необходимое, она уж не рассчитывала боязливо расходов, но никогда в то же время особенно не швыряла деньгами. Сейчас ей нужны были деньги, которые можно было бы тратить не считая. В то время как во всей остальной Германии гибли от голода, здесь, в Гармише, наслаждались излишеством и изобилием. Здесь жили главным образом иностранцы, которые благодаря инфляции могли, в сущности за гроши, купаться в роскоши. Никто не спрашивал о ценах. Только тетка Аметсридер мрачно покачивала своей огромной мужеподобной головой и в сильных выражениях предсказывала грядущую катастрофу. Что останется делать Иоганне, когда до конца будет исчерпан ее текущий счет в банке? Просить денег у Гессрейтера? Она сбоку поглядела на г-на Гессрейтера, который сидел рядом с ней, спокойный, веселый, медленно отбивая пальцами такт музыки. Очень трудно так вот, ни с того ни с сего, попросить у человека денег. Она еще никогда не пыталась это делать. Г-н Гессрейтер поглядел на Иоганну своими подернутыми поволокой глазами. Он указал ей на человека, изощрявшегося сейчас на эстраде. Это был своего рода музыкальный клоун. Он остроумно и зло искажал знакомые музыкальные мотивы. «Когда-то, – с насмешкой пояснил Пфаундлер, – этот человек был революционером в своей области. Его программой была автономия художника-исполнителя. Он утверждал, что для настоящего артиста оригинал – то есть в данном случае произведение композитора – лишь сырой материал, из которого он имеет право создать все, к чему он чувствует себя призванным. Его своеобразная, вызывавшая споры интерпретация классической музыки пользовалась огромным успехом у одних и вызывала бешеные нападки других. Затем он постепенно надоел публике. А теперь вот, – закончил Пфаундлер, – он стал артистом кабаре – и хорошо сделал!»
Не будучи очень музыкальной, Иоганна рассеянно прислушивалась к изощрениям человека на эстраде. Ей казалось, что на нее обращают больше внимания, чем в начале вечера. Она вскользь сказала об этом Гессрейтеру. Тот ответил, что давно уже наблюдает за художником Грейдерером и видит, как тот таскается от столика к столику, разнося по залу подробности истории Иоганны Крайн. Все чаще взгляды обращались к укромному уголку, где она сидела.
Снова зазвонил ее настольный телефон. Голос в трубке просил Иоганну взглянуть в сторону ложи Фенси де Лукка. Красивым жестом смуглая женщина подняла бокал. Ее лицо озарилось ярким, теплым светом. Так, на глазах всего зала, следившего за ее жестом внимательнее, чем за происходившим на сцене, Фенси де Лукка, не сводя с Иоганны своих темных мятежных глаз, выпила за ее здоровье. Иоганна вспыхнула от радости. Ее серые глаза засветились в ответ благодарностью к знаменитой итальянке, так подчеркнуто выражавшей сочувствие ей, никому не известной, и ее делу.
Но вот зал, впервые за весь вечер, погрузился во тьму. На эстраде появилась Инсарова. Это было первое выступление танцовщицы перед действительно требовательной публикой. Болтовня Пфаундлера должна была, разумеется, служить лишь рекламой. Он выкопал эту Инсарову в каком-то невзрачном кабачке в Берлине, в районе Фридрихштадт, где она подвизалась в качестве шансонетки. Сейчас он со страстным интересом проверял, оправдается ли его чутье, жадными мышиными глазками наблюдал за производимым ею впечатлением. Ее худощавое покорное тело без особых претензий на искусство скользило по эстраде, слегка раскосые глаза беспомощно, нагло и фамильярно ласкали зрителей. В обычно бесцеремонно-шумном зале стало тихо. Англосаксы сидели выпрямившись, один из них, собиравшийся набить трубку, отложил ее в сторону. Инсарова разыгрывала какую-то несложную пантомиму, сентиментально и бесстыдно, как показалось Иоганне, пожалуй даже глуповато, во всяком случае банально. Маленькая эстрада была теперь вся погружена в темноту. Прожектор выделял танцовщицу из мрака, выхватывая также небольшой сектор зрительного зала, в сторону которого актриса внезапно повернулась, танцуя. По залу пробежало беспокойство. Все глядели в сторону, освещенную прожектором. Там, выделенный из мрака снопом лучей, сидел слащавого вида молодой человек, безусловно не актер, один из их среды, из публики. Да, не могло быть сомнений – для него плясало это тоненькое, возбуждавшее желания существо там на эстраде, на него глядели ее влажные, слегка раскосые глаза, для него изгибались ее покорные члены. Беспокойство возрастало. Слащавый юноша сидел все так же невозмутимо, потягивая свое питье. Неужели он не замечал глядевших на него из мрака завистливо-любопытных глаз? Худенькую женщину на эстраде охватывала все более страстная покорность, ее щеки западали, придавая лицу что-то детское, ее пляска с обнаженной, бесстыдной, зовущей мольбой тянулась к неподвижному человеку за столиком. В конце концов она без сознания упала на пол. Легкие вскрики женщин. Мужчины приподымаются, музыка умолкает. Занавес, однако, не опускается. После нескольких полных напряжения, волнующих мгновений женщина с улыбкой поднимается с пола, пляшет так же чувственно и бесстыдно, как и вначале, обнажая мелкие влажные зубы, кажется юной и хорошенькой; слегка раскосые глаза беспомощно, нагло и фамильярно ласкают зрителей. Еще несколько тактов, и она кончает. Молчание, затем отдельные свистки, затем – гром бешеных рукоплесканий.
– Рискованная штука! – говорит г-н Гессрейтер.
Пфаундлер с удовлетворением фыркает, прощается, улыбаясь. Он очень гордился своим чутьем. Если (что случалось очень редко) нюх, его главное дарование, обманывал Пфаундлера, то это огорчало его больше, чем потеря денег. Сегодня пример Инсаровой доказал, что нюх у него тонкий.
Не успел он отойти, как г-н Гессрейтер неожиданно спросил:
– Правда ли, что вы выходите замуж за доктора Крюгера?
При этом он не глядит на Иоганну. Его темные глаза устремлены куда-то в зрительный зал, полные холеные руки играют стаканом. Иоганна не отвечает. Лучи света отражаются в ее блестящих ногтях. С непроницаемым видом глядит она в пространство. Г-н Гессрейтер не знает даже, слышала ли она его вопрос. Нет, это не так: он, конечно, знает, что она слышала. Знает также, что эта высокая девушка интересует его больше, чем он этого желал бы. Он не хочет себе в этом признаться. Он и не думает позволить проснуться в себе таким чувствам. Такой бонвиван, как он, занят совсем иными вещами, и, обращаясь к Иоганне, он отпускает циничное замечание по адресу одной из голых девиц, выступающих сейчас на пфаундлеровской эстраде.
Иоганна все с тем же непроницаемым лицом заявляет, что устала. Но в то время как г-н Гессрейтер, слегка задетый этими словами, предлагает проводить ее домой, подоспевший откуда-то Пфаундлер настаивает, чтобы они еще посмотрели игорные залы и прежде всего «интимный зал» во время игры. Он просит их, заклинает, пока наконец Иоганна не сдается.
В «интимном зале» г-н Гессрейтер быстро отыскал для себя и Иоганны хорошие места. Поставил большую сумму. Проиграл. При ближайшем удобном случае поставил снова. Сказал, глядя на руки банкомета:
– Итак, вы выходите за Крюгера. Странно.
Он продолжал играть задумчиво, меланхолически, сильно рискуя. Много проиграл. Предложил Иоганне принять участие в его игре. Иоганна сидела рядом, не испытывая интереса к игре, которой не понимала. Она думала о том, что это большие деньги, что на них можно было бы много недель прожить в Гармише. Неожиданно за ее спиной оказалась Инсарова, поздоровалась с ни на чем не основанной сердечностью, горячо стала советовать Иоганне принять участие в игре Гессрейтера. Гессрейтер поставил сразу целую груду игральных марок, пробормотав, что это для Иоганны. Иоганна рассеянно глядела на лица игроков, на пухлые руки Гессрейтера, на нервный, выразительный профиль Инсаровой, наклонившейся к ней, сопровождавшей игру Гессрейтера восторженными восклицаниями и обнажавшей при этом мелкие влажные зубы.
Иоганна не следила за игрой. Ей казалось, что Гессрейтер в большом проигрыше. Внезапно он заявил, что теперь довольно – игра, по-видимому, ей наскучила. Он пододвинул к Иоганне большую пачку кредиток и марок, пояснив, что это ее доля. Иоганна взглянула на него, удивленная. Инсарова, резко побледнев, переводила взгляд с одного на другого. Куча денег, лежавшая перед Иоганной, представляла собой значительную сумму. Даже в том случае, если ей еще на месяцы будет запрещено заниматься своей профессией и как бы дорого ни обошлось пребывание в Гармише, ее текущий счет не так-то скоро будет исчерпан. Она взглянула на Гессрейтера. Тот стоял с подчеркнуто безразличным видом, держа остаток денег в руках. Его баки чуть-чуть вздрагивали. Он определенно нравился Иоганне – он умел красиво давать деньги.
Затем он проводил ее до гостиницы. Идти было недалеко. Была ясная морозная ночь.
Инсарова, стоя у окна игрального зала, глядела им вслед. Она казалась осунувшейся, усталой. Около нее стоял Пфаундлер, в чем-то ее убеждая. Взгляд его крохотных мышиных глазок под шишковатым черепом неустанно скользил по ее худенькому телу.
Навстречу Иоганне и Гессрейтеру шел человек. Бесформенный в своей толстой шубе, он шел, не глядя по сторонам, один в эту светлую, снежную ночь, и походка его казалась неестественно легкой при его массивной фигуре.
– Пятый евангелист! – сердито прошептал г-н Гессрейтер. – Заваривает здесь какую-то подлую кашу с одним из рурских угольных божков!
При слабом свете Иоганна смутно разглядела над темно-коричневой шубой мясистое лицо, верхнюю губу и густые, выпуклые черные усы. Г-н Гессрейтер неуверенно поднял руку к шляпе, как будто собираясь поклониться. Но прохожий не заметил его или не узнал, и г-н Гессрейтер воздержался от поклона.
Молча прошел он с Иоганной остаток пути.
– Итак, вы выходите замуж за Крюгера, – проговорил он наконец. – Странно, странно.
12. Живая стена Тамерлана
Иоганна Крайн в сопровождении адвоката Гейера отправилась к имперскому министру юстиции Гейнродту, ненадолго прибывшему в Гармиш для отдыха. Доктор Гейнродт остановился не в одном из больших, шикарных отелей Гармиша, а в недорогом и простом пансионе «Альпийская роза» в конце главной улицы, тянувшейся через оба сливающиеся вместе поселка – Гармиш и Партенкирхен.
Министр юстиции принял своих гостей в небольшом кафе, принадлежащем пансиону «Альпийская роза». Это был прокопченный табачным дымом зал с круглыми мраморными столиками и плюшевыми диванами вдоль стен, жарко отапливаемый большой изразцовой печью. По стенам тянулись гирлянды альпийских роз. Над ними в бесчисленном повторении плясали, ударяя себя по ляжкам, парни в зеленых шляпах и девушки в широких юбках и узких корсажах. За мраморными столиками сидели мелкие буржуа в нескладной зимней одежде – в шалях, охотничьих куртках, крылатках, – макая в кофе жирное пирожное. Доктор Гейнродт был приветливый господин в очках, с добродушной окладистой бородой. Он любил, когда поражались его сходством с известным индийским писателем Тагором. Он долго и мягко глядел своим гостям в глаза, помог Иоганне снять жакет, дружески похлопал Гейера по плечу. Затем они устроились за одним из круглых столиков в углу на бархатном диване; беседуя, пили кофе. Кругом сидели другие посетители, которые, стоило им только напрячь слух, могли слышать каждое слово.
Иоганна была молчалива, больше говорил адвокат, доктор Гейер, а больше всех – министр юстиции. Он проявил себя человеком удивительной начитанности, читал большинство книг доктора Крюгера, очень его ценил, бесконечно скорбел об его участи. Он вполне готов был допустить, что Мартин Крюгер невиновен. Но министр обладал широким кругозором и был склонен к обобщениям, в которых затем безнадежно увязал. Иоганна устала. Ее до тошноты раздражала эта бездейственная, все понимающая кротость. Из тончайших и остроумных рассуждений министра она успела уловить лишь, что мыслимы случаи, когда по отношению к человеку во имя права приходится совершать несправедливость, что власть, опирающаяся на успех, сама создает право и что в конце концов порою бывает гораздо важнее сам факт существования какого-то спора, чем его исход.
В небольшом зале было нестерпимо жарко. Входили и выходили люди. Альпийские розы с девушками в широких юбках и парнями в зеленых шляпах вились вдоль стен. Звенели кофейные чашки. Седая кроткая борода министра поднималась и опускалась, его глаза, глаза доброго дядюшки, благожелательно останавливались на смуглом широком лице Иоганны, понимали и прощали неугомонного мученика Гейера, молчаливость и досаду Иоганны, медленное обслуживание гостей в маленькой кондитерской, всю жизнь этого свежего, роскошного зимнего курорта посреди обнищавшей части света.
Адвокат и министр вели оживленный остроумный спор по вопросам философии права. Беседа давно уже уклонилась в сторону от вопроса о докторе Крюгере. Просто два свободомыслящих юриста разыгрывали перед случайной зрительницей интересный турнир. Какая-то странная скованность охватывала Иоганну от этого рокового всепрощения кроткого старца, который с самыми добрыми намерениями гнуснейшие судебные решения топил в море многословного понимания, несправедливые, бесчеловечные приговоры укутывал в вату своей благожелательной философии.
Иоганна многого ждала от этой встречи с министром юстиции, о человеколюбии которого всюду говорили. Его присутствие здесь и послужило для нее одним из главных поводов поездки в Гармиш. И вот она сидит в этом жалко убранном душном зале, где после живительного свежего воздуха человека охватывает вялая лень и все начинает казаться мрачным и безнадежным. Какой-то старичок макает в кофе пирожное и говорит, другой человек, более молодой и нервный, занятый тысячью других вопросов, тоже говорит, а Мартин Крюгер в это время сидит в камере – четыре метра в длину и два в ширину, – и его счастливейший час в течение дня – это час, проводимый среди шести замурованных деревьев.
Плечи Иоганны опустились. Чего ради сидит она здесь, с этими людьми? Чего ради сидит она в Гармише? Все это было совершенно бессмысленно. Смысл имело, быть может, уехать в деревню, работать в поле, родить ребенка. Министр настроился между тем поэтически. Его монотонный, поучающий голос вещал:
– Диктатор Тамерлан в стену, окружавшую его владения, замуровывал живых людей. Стена права достойна таких человеческих жертв!
Но вот адвокат Гейер перешел в решительное наступление. Он был в ударе. Его зоркие, настойчивые голубые глаза не отпускали собеседника, его голос, не слишком громкий (чтобы не привлечь внимания окружающих), звучал твердо и убедительно. Он говорил о бесчисленных мертвецах – жертвах мюнхенских судебных процессов, о расстрелянных и заточенных в тюрьмы, об осужденных за убийство, но убийства на самом деле не совершавших и о бесчисленных убийцах, не привлекавшихся к ответу за убийство. Он не забыл и о мелких подробностях. Не забыл о мебели, описанной у жены осужденного за какой-то нелепый проступок, – описанной на покрытие очень крупных судебных издержек за время затянувшегося процесса, которых она не могла уплатить. Не забыл и о расходах на казнь расстрелянного по обвинению в государственной измене, возмещения которых сейчас вторично требовали у матери расстрелянного – «уплатить в недельный срок во избежание продажи с торгов имущества».
Одурманенная болтовней старика и царившей в комнате жарой, Иоганна с трудом могла уследить за быстрыми словами адвоката. Странно: второстепенные подробности производили на нее большее впечатление, чем значительные факты. Чудовищно число бессмысленно убитых, с желтым лицом и продырявленной грудью, наспех закопанных ночью в лесу и неотомщенных. Страшны цифры расстрелянных, словно при охотничьей облаве, целыми партиями в каменоломне, брошенных в яму и посыпанных сверху известкой, и неотомщенных. Страшны были убитые, валявшиеся у стены казармы, послужившие мишенью десятку равнодушных ружейных дул, невинные, но убитые во имя права. Но всего омерзительнее спирало дыхание от чиновничьей руки, предъявлявшей матери счет за пули, израсходованные на расстрел сына.
Министр, как ни порицал он приведенные факты, все же готов был понять и их. Под звуки маленького оркестра, состоявшего из скрипки, цитры и гармоники, он и эти «судебные ошибки» влил в общее море понятия права. Необходимо соблюдать автономию судей; без нее нет твердого права. Все же он, Гейнродт, насколько это было возможно без нарушения основных принципов, всегда старался смягчать жестокость приговоров.