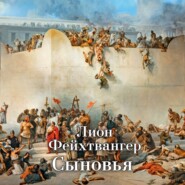По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зал ожидания. Книга 3. Изгнание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Только смотри не разбуди мальчика, – говорит она. – Принеси спиртовку сюда.
Он старается двигаться бесшумно, но это удается ему с трудом.
– Ты читала ответную ноту Берлина? – спрашивает он, приготовляя кофе.
Анна ее читала, да и у доктора Вольгемута о ней говорили. Она была уверена, что Зепп с его сангвиническим темпераментом, прочтя эту наглую ноту, упал с седьмого неба на землю. Конечно, для него это тяжелый удар; конечно, он вне себя и потому-то, вероятно, выпил немного и пришел домой так поздно.
Услышав об этой недоброй вести из Германии, она решила быть с ним особенно ласковой, но, к великому ее разочарованию, час проходил за часом, а он все не шел и вот теперь, около пяти часов утра, является в таком виде. И все же сегодня ему многое простится, у него был тяжелый день, она должна ему помочь.
– Это только маневр, – повторяет она, чтобы его утешить, слова, которые от кого-то слышала. – Они стараются оттянуть время. Швейцария, несомненно, обратится в третейский суд. Все так думают, не исключая газет.
Но он как будто не так уж потрясен.
– Я тут же продиктовал надлежащий ответ прямо на линотип, – заявляет он гордо. – Ну и намылил я им голову. Статья получилась, ей же богу, великолепная.
Он отправляется в ванную за чашкой. Длинный и широкий халат, когда-то элегантный, а теперь потрепанный, висит на нем мешком. «Надо бы купить ему новый, – думает Анна. – Но он истратил все деньги на микроскоп».
– Не разбуди мальчика, – предостерегает она вторично.
Он возится на кухне, затем возвращается с кофейной чашкой в руках и садится на кровать. Он умылся, почистил зубы и от этого чувствует себя словно и внутренне чище. Вот, думается ему, и опять он нормальный Зепп Траутвейн, он не скачет до небес от восторга и не сокрушается до смерти, он такой, каким бывает каждый день, точнее, каждую ночь. Он радуется чашке кофе, радуется, что Анна проснулась. Это, конечно, эгоистично, но ему хочется сейчас с кем-нибудь поговорить, а Анна – добрый, старый друг, она не смеялась над ним по поводу ноты, это ей зачтется.
– Статья удалась, – благодушно сказал он, помешивая ложечкой кофе. – Я в виде опыта продиктовал прямо на линотип. Статья в самом деле вышла замечательная. Мне крайне интересно, что ты скажешь, когда прочтешь. – Он поднес чашку ко рту, отхлебнул. – Фу, какая гадость! – воскликнул он и выплюнул. – Что это за бурда? – Он говорил с раздражением, он так радовался этому кофе, и вот пожалуйте. – Молоко, – сказал он недовольно, сварливо, – оно испортилось, скисло. Что же это такое, оставлять человеку скисшее молоко. Свинство. Ведь видно, что свернулось. – Он был очень раздосадован.
– Может быть, ты будешь говорить тише, – сказала Анна приглушенным голосом, но очень зло. – Незачем будить еще и мальчика.
Он посмотрел на нее. От резкости ее тона рассеялись последние клочья блаженного тумана, окутывавшего его. И раньше бывало, что у Анны прорывалась энергичная нотка в разговоре с ним, но чтобы она говорила так тихо, резко и враждебно, этого он не запомнит. Он взглянул на нее, оторопевший, растерянный. Стал думать. Что с ней? Рано утром она должна быть на работе у этого треклятого Вольгемута, она переутомлена, с утра до вечера на ногах, она заслужила свой ночной сон, ему не следовало ее будить. Но ведь он это не намеренно сделал. Разве такое уж преступление захотеть выпить чашку кофе в неурочный час? В конце концов, за эти два года он немало брал на себя, но не жаловался и не хныкал. Учись страдать молча. А разве Анна когда-нибудь жаловалась? Вздор. Конечно, он не прав. В истории с берлинской нотой Анна вела себя исключительно порядочно. Ее, несомненно, подмывало воспользоваться нотой, для того чтобы возобновить свои старые нападки на его политику. Но она сдержалась, она не сделала этого. Нельзя требовать от человека, чтобы он, разбуженный среди ночи, был воплощением любезности и нежности. Надо сказать ей что-нибудь ласковое.
Самое разумное – сделать вид, что он не заметил ее резкого тона, что он вообще ничего не слышал.
– Я хочу тебе рассказать кое-что, – говорит он торопливо, неестественно приподнятым тоном. – Знаешь, что я делал по дороге? Сочинял стихи. Стихи преглупые, но, по-моему, очень забавные. – И он декламирует:
Отечество я, говорил он, спасу
И в пух мировой большевизм разнесу.
Она рассеянно слушает его. Стишки и в самом деле смешные, и вот она уж и улыбается. Но тотчас же смахивает с лица улыбку. Она не желает сейчас слушать смешные стишки. Что он вздумал? Прийти домой в четыре часа утра и попрекать ее за то, что среди ночи в доме не оказалось свежего молока. Ее-то. Она бы тоже не прочь, чтобы хозяйство велось лучше, но, к сожалению, не хватает денег. Если ему, и ей, и мальчику живется не так ужасно, как Элли, то это не его заслуга. Молоко несвежее. Она тут при чем? Молоко приносят в те часы, когда она у Вольгемута. Она раз сто говорила мадам Шэ, своей приходящей прислуге, чтобы та не сливала свежее молоко в одну посуду со вчерашним, но все это впустую, мадам Шэ молода, хороша собой, и в голове у нее одни кавалеры. Она кое-как отрабатывает свои часы, она работает плохо и за дешевую плату, она безалаберна, и хоть кол на голове теши – она все равно будет сливать в одну посуду свежее и вчерашнее молоко. А просто вылить вчерашнее молоко – это нельзя себе позволить, и нанять другую прислугу тоже нет возможности, да и времени нет возиться с ней, пока ее вышколишь. Зеппу-то что, он ничего знать не знает, ему все легко достается. Он выбрасывает пятьсот франков на покупку микроскопа, а между тем мальчику микроскоп ни к чему. Гансу жаль понапрасну истраченных денег, он бегает по Парижу и старается загнать микроскоп. Не меньше двухсот франков придется на этом потерять. Двести франков выброшены на ветер. И после всего Зепп сидит с недовольной миной и ворчит, что среди ночи не оказалось свежего молока.
Зепп Траутвейн смотрит на нее. Он сидит на кровати, халат на нем распахнулся, голые ноги мерзнут. Но она не улыбается, лицо у нее по-прежнему мрачно.
Мрачнеет и он, и во взгляде, которым он смотрит на нее, появляется недобрый огонек. Нет, очаровательной ее уже не назовешь. Черты лица расплылись, глаза потускнели, утратили блеск, волосы всклокочены, порядком поседели. И еще сердится, упрямится. Он не пошел с Зайчонком только потому, что думал об Анне, а она вот как ведет себя.
Оба молчат и только поглядывают друг на друга. Оба насквозь видят друг друга и хотя не могли бы точно выразить словами мысли другого, но приблизительно угадывают их и не могут подавить в себе неприязни.
В открытое окно вливается мутный рассвет, дуговые фонари еще горят, и в этом унылом полумраке комната кажется вдвойне неприглядной.
«Изгажено, – думает он. – Все изгажено. Никогда не бывать мне больше в Мюнхене, никогда не вступить под Триумфальные ворота и даже по железной дороге в вагоне третьего класса не приехать на мюнхенский вокзал. Эти проклятые бараны навек останутся в Мюнхене, они распространятся по всему миру. Они испакостили Кенигсплац, вышвырнули из страны или уволили лучших музыкантов, они испакостят все. Не бывать больше никаким репетициям, да и лекций никаких не будет, будет только одно дерьмо. И никогда капельдинер в театре не скажет мне: „Ну вот, господин профессор, мы и порешили с этим свинарником“. Никогда мы не порешим с этим свинарником, никогда мы от него не избавимся, и Беньямина, черт бы его подрал, они тоже никогда не освободят, fait accompli, так оно и останется, и господин Гитлер будет по-прежнему плевать на все. Глупый баран – это я. Анна права. Не нужно было забрасывать музыку. Но это возмутительно, что она права, а сейчас она еще и показать хочет, что была права. А я не пошел с Зайчонком. И зря».
Анна чувствует его неприязненные мысли. «В следующий раз, – думает она, – когда я увижу мадам Шэ, я устрою ей скандал. Хотя от этого никакого толку, но я все-таки в тысячный раз скажу ей, чтоб она не смела сливать в одну посуду вчерашнее и свежее молоко, я скажу ей это не шутя, а очень резко, я накричу на нее, а в следующий раз она, конечно, опять смешает свежее молоко со вчерашним. Я все бьюсь с этими Перейро и с этим сбродом из радио, я ломаю себе голову, а ему это ни к чему. Я уговариваю его, как капризного ребенка, чтобы он наконец бросил свою политику. До мозолей на языке убеждаю его вернуться к музыке. Я-то сама и думать даже не могу о чем-нибудь стоящем, мои постылые заботы и моя постылая работа целиком съедают меня, а он ведет себя так, точно я все это делаю ради собственного удовольствия. Сколько бы я ни расшибалась в лепешку, все равно меня постигнет та же участь, что и Элли. Я уже стара и некрасива, и у меня нет денег прикрыть все изъяны. Из-за него я превратилась в старуху, а он смотрит на меня такими глазами».
И вдруг она резко говорит ему:
– Ты что, совсем голову потерял? Не замечаешь, что становишься общим посмешищем? Брось ее к черту, твою дурацкую политику. Ты же все равно ничего в ней не смыслишь. Ты только ставишь себя в нелепое положение. Неужели тебе все еще не ясно, что ты ходишь в донкихотах? – «Кофе ему понадобился, – думает она. – В пять часов утра кофе. Да еще ворчит, что молоко скисло. Но что же он думает? Я-то что могу сделать? Не могу же я в самом деле силой заставить эту Шэ наливать свежее молоко в чистую посуду». – Ты рехнулся, – говорит она громче, резче. Сейчас ее голос никак нельзя назвать приятным, лицо искажено. – Рехнулся. Рехнулся, – без конца повторяет она. – Займись лучше своими «Персами», – говорит она, – и забудь о политике, не твоего ума это дело. Ты рехнулся и делаешь сумасшедшими всех вокруг себя. – Она кричит все громче и громче: – Да, ты рехнулся, рехнулся. Тебе место в Дальдорфе.
Она визжит. Никогда еще, сколько Зепп ее знает, она не кричала, и вот в этом бурном порыве вылилось все – вся горечь, накопленная за последние два года. При этом мысль ее работает четко, она прекрасно сознает, что говорит. Что за чушь она порет? Как можно здесь, в Париже, в изгнании, говорить о том, что ему место в Дальдорфе, в берлинском доме для умалишенных? Она отдает себе отчет, что эта истерика свела на нет все ее самообладание, которое так трудно давалось ей в эти два года. Но она ничего не может с собой поделать, она не может не кричать. Ей уже недостаточно одного крика. Она хватает дешевый фаянсовый подсвечник, который неизвестно для чего стоит на ночном столике, и так швыряет его об пол, что он со звоном разбивается вдребезги.
Застучали в стенку, застучали в пол снизу. Вбежал Ганс, заспанный, испуганный.
– Что случилось?
Услышав стук в пол, увидев Ганса, она сразу же приходит в себя. «Выдохлась, окончательно выдохлась, – думает она, – меня уже ни на что не хватает, даже на гнев». Ибо весь ее гнев улетучился. Ей стыдно перед Гансом.
– Иди к себе, мальчик, ложись, – с усилием говорит она. – Это пустяки. – Она истерически всхлипывает и бросается ничком на постель, стараясь заглушить подушкой рыдания и стоны.
Траутвейн, перепуганный насмерть, машет сыну, просит:
– Иди к себе, Ганс, ложись. Сейчас все пройдет.
Комнату уже заливал тусклый, унылый свет серого утра, и тут он впервые увидел Анну, увидел ее такой, какой она стала и внешне, и внутренне. Он понял, как много еще содержания осталось в его жизни и как мало – в ее. У него есть политика, музыка, его день – это шестнадцать насыщенных часов, один богаче другого; у нее же нет ничего, ничего, ничего. Ей осталось только цепляться за него, а он, быть может, изредка ее погладит, как доброе, верное животное. Вдруг он понял, что такое все эти бесчисленные страхи и мелкие заботы, вызывающие в нем только досаду или в лучшем случае благодушное презрение. Все, с чем он сталкивался благодаря «Новостям», что открывалось ему из разговоров с сослуживцами и из переписки с читателями и всякого рода просителями, что с такой ужасающей ясностью предстало перед ним в «Сонете 66» Гарри Майзеля, – все это он вдруг ощутил всем своим существом, понимая, что и он разделил бы общую участь, если бы не Анна. Анна и только Анна оградила его от всех ужасов, а он этого не замечал, не хотел замечать. И вот он является домой, прошатавшись всю ночь, будит ее и скандалит оттого, что молоко не очень вкусно.
Она все еще лежит, зарывшись лицом в подушки. Куда девались ее красивые темно-каштановые волосы? Они поседели, потускнели. Но спина, вздрагивающая от всхлипываний, все еще такая, какую он любил двадцать лет назад. Бережно проводит он рукой по этой спине и, приглушая голос, ласково приговаривает:
– Не надо, Анна, не надо.
Еще некоторое время он сидит около жены, стараясь успокоить ее; затем тихонько ложится рядом и кладет ее голову к себе на грудь.
Ни он, ни она не произносят на слова; он чувствует себя глубоко виноватым. Он рад, что ей легче, что вспышка прошла. Она высвобождается из его объятий. Он как-то сразу чувствует всю усталость минувшего тяжелого дня и долгой ночи. Да, он устал, как пес. Единственное, что он еще чувствует, – это безграничная, мучительная усталость, переполняющая его. Он хочет что-то сказать Анне, но не в силах. Помимо воли он засыпает крепким глубоким сном.
13
Песенка о базельской смерти
– Удивляюсь, дорогой Визенер, – сказал Шпицци, и сияющая улыбка обнажила его прекрасные новые зубы, – что вы из-за такого пустяка пожаловали собственной персоной. – Он нагло и любезно смотрел в лицо Визенеру; хотя от всего облика этого человека веяло молодостью, в его светлых глазах иногда неожиданно мелькало по-стариковски хитрое ироническое выражение.
Разговор происходил в служебном кабинете фон Герке на улице Лилль. Шпицци был прав, Визенеру и самому было странно, что такое незначительное обстоятельство, как дело Беньямина, заставило его отправиться в посольство. Он, пожалуй, и сам жалел уже, что приехал. Однако побуждение, погнавшее его сюда, было слишком сильно.
Когда он читал бессмысленный и наглый лепет, которым Берлин ответил на швейцарскую ноту, и у него тоже возникло тягостное впечатление, будто дело уже, пожалуй, кончено и объекта спора не существует. Визенер не был сентиментален, он вряд ли смог бы объяснить, почему после множества других тупых, зверских злодеяний его так глубоко взволновало именно это; но так оно было. Думая о том, что Фрица Беньямина могли убить, он испытывал почти физическое отвращение, словно проглотил тухлую устрицу.
Шпицци это дело, по-видимому, не особенно трогало. Во всяком случае, он продолжал чуть-чуть подтрунивать над Визенером в своем обычном тоне, любезно и не без коварства.
– Видите, mon vieux, – глубокомысленно сказал он, – два месяца назад вы удивлялись, что я всполошился из-за некоего Беньямина и некоего Траутвейна. А теперь вы сами пожаловали сюда. Кстати, доставлены вам материалы о «Парижских новостях»? – осведомился он.
Визенер поблагодарил. Материалы получены. В этом деле Шпицци вел себя безукоризненно. Он послал ему, не ожидая письменного запроса со стороны Визенера, толстую папку с документами, касающимися «Парижских новостей», все досье – подробные ценные сведения, прежде всего об издателе Луи Гингольде. Имея на руках такие материалы, можно начать кампанию против «Парижских новостей» с большими шансами на успех. Почему не делает этого сам Шпицци? Ведь именно сейчас, когда история с Беньямином сошла не совсем гладко, ему не мешало бы выслужиться перед Берлином. Почему же он послал материалы Визенеру? По щедрости натуры? Или не хочет сам пачкать руки? Или ему это просто безразлично?
Но Визенер явился сюда не для того, чтобы читать в душе Шпицци, ему хотелось избавиться от преследовавших его сомнений. Его мучила мысль, что дело Беньямина – комедия, что вся эта пляска идет вокруг трупа. Несомненно, Леа или Рауль вскоре опять спросят его о Фридрихе Беньямине; что он ответит? Представляя это себе, он ежится, как в свое время в окопе, когда его донимали вши. Нет, он не доставит Шпицци удовольствия, не будет с ним говорить о материалах, касающихся «Парижских новостей», довольно он ходил вокруг да около, пора идти в открытую.
– Как по-вашему, дорогой Шпицци, – спросил он в упор, – дело Беньямина можно считать ликвидированным?
Господин фон Герке не замедлил уловить скрытый смысл вопроса. «Ликвидировано», сказал Визенер. Это был точный технический термин; человека «ликвидируют», «сплавляют», «убирают», и тем самым ликвидируется все дело. Шпицци уже и сам спрашивал себя, не ликвидировано ли таким путем дело Беньямина, он не возражал бы против такой развязки. Фрицхен Беньямин был ему безразличен, но вечная болтовня об этой нелепой истории действовала ему на нервы.
Так или иначе, не все ли равно Визенеру, чем кончилось похищение Беньямина? Шпицци чувствовал презрение к репортерскому зуду этого человека, он вскинул голову, слегка наклонил ее набок и надменно фыркнул.
Он старается двигаться бесшумно, но это удается ему с трудом.
– Ты читала ответную ноту Берлина? – спрашивает он, приготовляя кофе.
Анна ее читала, да и у доктора Вольгемута о ней говорили. Она была уверена, что Зепп с его сангвиническим темпераментом, прочтя эту наглую ноту, упал с седьмого неба на землю. Конечно, для него это тяжелый удар; конечно, он вне себя и потому-то, вероятно, выпил немного и пришел домой так поздно.
Услышав об этой недоброй вести из Германии, она решила быть с ним особенно ласковой, но, к великому ее разочарованию, час проходил за часом, а он все не шел и вот теперь, около пяти часов утра, является в таком виде. И все же сегодня ему многое простится, у него был тяжелый день, она должна ему помочь.
– Это только маневр, – повторяет она, чтобы его утешить, слова, которые от кого-то слышала. – Они стараются оттянуть время. Швейцария, несомненно, обратится в третейский суд. Все так думают, не исключая газет.
Но он как будто не так уж потрясен.
– Я тут же продиктовал надлежащий ответ прямо на линотип, – заявляет он гордо. – Ну и намылил я им голову. Статья получилась, ей же богу, великолепная.
Он отправляется в ванную за чашкой. Длинный и широкий халат, когда-то элегантный, а теперь потрепанный, висит на нем мешком. «Надо бы купить ему новый, – думает Анна. – Но он истратил все деньги на микроскоп».
– Не разбуди мальчика, – предостерегает она вторично.
Он возится на кухне, затем возвращается с кофейной чашкой в руках и садится на кровать. Он умылся, почистил зубы и от этого чувствует себя словно и внутренне чище. Вот, думается ему, и опять он нормальный Зепп Траутвейн, он не скачет до небес от восторга и не сокрушается до смерти, он такой, каким бывает каждый день, точнее, каждую ночь. Он радуется чашке кофе, радуется, что Анна проснулась. Это, конечно, эгоистично, но ему хочется сейчас с кем-нибудь поговорить, а Анна – добрый, старый друг, она не смеялась над ним по поводу ноты, это ей зачтется.
– Статья удалась, – благодушно сказал он, помешивая ложечкой кофе. – Я в виде опыта продиктовал прямо на линотип. Статья в самом деле вышла замечательная. Мне крайне интересно, что ты скажешь, когда прочтешь. – Он поднес чашку ко рту, отхлебнул. – Фу, какая гадость! – воскликнул он и выплюнул. – Что это за бурда? – Он говорил с раздражением, он так радовался этому кофе, и вот пожалуйте. – Молоко, – сказал он недовольно, сварливо, – оно испортилось, скисло. Что же это такое, оставлять человеку скисшее молоко. Свинство. Ведь видно, что свернулось. – Он был очень раздосадован.
– Может быть, ты будешь говорить тише, – сказала Анна приглушенным голосом, но очень зло. – Незачем будить еще и мальчика.
Он посмотрел на нее. От резкости ее тона рассеялись последние клочья блаженного тумана, окутывавшего его. И раньше бывало, что у Анны прорывалась энергичная нотка в разговоре с ним, но чтобы она говорила так тихо, резко и враждебно, этого он не запомнит. Он взглянул на нее, оторопевший, растерянный. Стал думать. Что с ней? Рано утром она должна быть на работе у этого треклятого Вольгемута, она переутомлена, с утра до вечера на ногах, она заслужила свой ночной сон, ему не следовало ее будить. Но ведь он это не намеренно сделал. Разве такое уж преступление захотеть выпить чашку кофе в неурочный час? В конце концов, за эти два года он немало брал на себя, но не жаловался и не хныкал. Учись страдать молча. А разве Анна когда-нибудь жаловалась? Вздор. Конечно, он не прав. В истории с берлинской нотой Анна вела себя исключительно порядочно. Ее, несомненно, подмывало воспользоваться нотой, для того чтобы возобновить свои старые нападки на его политику. Но она сдержалась, она не сделала этого. Нельзя требовать от человека, чтобы он, разбуженный среди ночи, был воплощением любезности и нежности. Надо сказать ей что-нибудь ласковое.
Самое разумное – сделать вид, что он не заметил ее резкого тона, что он вообще ничего не слышал.
– Я хочу тебе рассказать кое-что, – говорит он торопливо, неестественно приподнятым тоном. – Знаешь, что я делал по дороге? Сочинял стихи. Стихи преглупые, но, по-моему, очень забавные. – И он декламирует:
Отечество я, говорил он, спасу
И в пух мировой большевизм разнесу.
Она рассеянно слушает его. Стишки и в самом деле смешные, и вот она уж и улыбается. Но тотчас же смахивает с лица улыбку. Она не желает сейчас слушать смешные стишки. Что он вздумал? Прийти домой в четыре часа утра и попрекать ее за то, что среди ночи в доме не оказалось свежего молока. Ее-то. Она бы тоже не прочь, чтобы хозяйство велось лучше, но, к сожалению, не хватает денег. Если ему, и ей, и мальчику живется не так ужасно, как Элли, то это не его заслуга. Молоко несвежее. Она тут при чем? Молоко приносят в те часы, когда она у Вольгемута. Она раз сто говорила мадам Шэ, своей приходящей прислуге, чтобы та не сливала свежее молоко в одну посуду со вчерашним, но все это впустую, мадам Шэ молода, хороша собой, и в голове у нее одни кавалеры. Она кое-как отрабатывает свои часы, она работает плохо и за дешевую плату, она безалаберна, и хоть кол на голове теши – она все равно будет сливать в одну посуду свежее и вчерашнее молоко. А просто вылить вчерашнее молоко – это нельзя себе позволить, и нанять другую прислугу тоже нет возможности, да и времени нет возиться с ней, пока ее вышколишь. Зеппу-то что, он ничего знать не знает, ему все легко достается. Он выбрасывает пятьсот франков на покупку микроскопа, а между тем мальчику микроскоп ни к чему. Гансу жаль понапрасну истраченных денег, он бегает по Парижу и старается загнать микроскоп. Не меньше двухсот франков придется на этом потерять. Двести франков выброшены на ветер. И после всего Зепп сидит с недовольной миной и ворчит, что среди ночи не оказалось свежего молока.
Зепп Траутвейн смотрит на нее. Он сидит на кровати, халат на нем распахнулся, голые ноги мерзнут. Но она не улыбается, лицо у нее по-прежнему мрачно.
Мрачнеет и он, и во взгляде, которым он смотрит на нее, появляется недобрый огонек. Нет, очаровательной ее уже не назовешь. Черты лица расплылись, глаза потускнели, утратили блеск, волосы всклокочены, порядком поседели. И еще сердится, упрямится. Он не пошел с Зайчонком только потому, что думал об Анне, а она вот как ведет себя.
Оба молчат и только поглядывают друг на друга. Оба насквозь видят друг друга и хотя не могли бы точно выразить словами мысли другого, но приблизительно угадывают их и не могут подавить в себе неприязни.
В открытое окно вливается мутный рассвет, дуговые фонари еще горят, и в этом унылом полумраке комната кажется вдвойне неприглядной.
«Изгажено, – думает он. – Все изгажено. Никогда не бывать мне больше в Мюнхене, никогда не вступить под Триумфальные ворота и даже по железной дороге в вагоне третьего класса не приехать на мюнхенский вокзал. Эти проклятые бараны навек останутся в Мюнхене, они распространятся по всему миру. Они испакостили Кенигсплац, вышвырнули из страны или уволили лучших музыкантов, они испакостят все. Не бывать больше никаким репетициям, да и лекций никаких не будет, будет только одно дерьмо. И никогда капельдинер в театре не скажет мне: „Ну вот, господин профессор, мы и порешили с этим свинарником“. Никогда мы не порешим с этим свинарником, никогда мы от него не избавимся, и Беньямина, черт бы его подрал, они тоже никогда не освободят, fait accompli, так оно и останется, и господин Гитлер будет по-прежнему плевать на все. Глупый баран – это я. Анна права. Не нужно было забрасывать музыку. Но это возмутительно, что она права, а сейчас она еще и показать хочет, что была права. А я не пошел с Зайчонком. И зря».
Анна чувствует его неприязненные мысли. «В следующий раз, – думает она, – когда я увижу мадам Шэ, я устрою ей скандал. Хотя от этого никакого толку, но я все-таки в тысячный раз скажу ей, чтоб она не смела сливать в одну посуду вчерашнее и свежее молоко, я скажу ей это не шутя, а очень резко, я накричу на нее, а в следующий раз она, конечно, опять смешает свежее молоко со вчерашним. Я все бьюсь с этими Перейро и с этим сбродом из радио, я ломаю себе голову, а ему это ни к чему. Я уговариваю его, как капризного ребенка, чтобы он наконец бросил свою политику. До мозолей на языке убеждаю его вернуться к музыке. Я-то сама и думать даже не могу о чем-нибудь стоящем, мои постылые заботы и моя постылая работа целиком съедают меня, а он ведет себя так, точно я все это делаю ради собственного удовольствия. Сколько бы я ни расшибалась в лепешку, все равно меня постигнет та же участь, что и Элли. Я уже стара и некрасива, и у меня нет денег прикрыть все изъяны. Из-за него я превратилась в старуху, а он смотрит на меня такими глазами».
И вдруг она резко говорит ему:
– Ты что, совсем голову потерял? Не замечаешь, что становишься общим посмешищем? Брось ее к черту, твою дурацкую политику. Ты же все равно ничего в ней не смыслишь. Ты только ставишь себя в нелепое положение. Неужели тебе все еще не ясно, что ты ходишь в донкихотах? – «Кофе ему понадобился, – думает она. – В пять часов утра кофе. Да еще ворчит, что молоко скисло. Но что же он думает? Я-то что могу сделать? Не могу же я в самом деле силой заставить эту Шэ наливать свежее молоко в чистую посуду». – Ты рехнулся, – говорит она громче, резче. Сейчас ее голос никак нельзя назвать приятным, лицо искажено. – Рехнулся. Рехнулся, – без конца повторяет она. – Займись лучше своими «Персами», – говорит она, – и забудь о политике, не твоего ума это дело. Ты рехнулся и делаешь сумасшедшими всех вокруг себя. – Она кричит все громче и громче: – Да, ты рехнулся, рехнулся. Тебе место в Дальдорфе.
Она визжит. Никогда еще, сколько Зепп ее знает, она не кричала, и вот в этом бурном порыве вылилось все – вся горечь, накопленная за последние два года. При этом мысль ее работает четко, она прекрасно сознает, что говорит. Что за чушь она порет? Как можно здесь, в Париже, в изгнании, говорить о том, что ему место в Дальдорфе, в берлинском доме для умалишенных? Она отдает себе отчет, что эта истерика свела на нет все ее самообладание, которое так трудно давалось ей в эти два года. Но она ничего не может с собой поделать, она не может не кричать. Ей уже недостаточно одного крика. Она хватает дешевый фаянсовый подсвечник, который неизвестно для чего стоит на ночном столике, и так швыряет его об пол, что он со звоном разбивается вдребезги.
Застучали в стенку, застучали в пол снизу. Вбежал Ганс, заспанный, испуганный.
– Что случилось?
Услышав стук в пол, увидев Ганса, она сразу же приходит в себя. «Выдохлась, окончательно выдохлась, – думает она, – меня уже ни на что не хватает, даже на гнев». Ибо весь ее гнев улетучился. Ей стыдно перед Гансом.
– Иди к себе, мальчик, ложись, – с усилием говорит она. – Это пустяки. – Она истерически всхлипывает и бросается ничком на постель, стараясь заглушить подушкой рыдания и стоны.
Траутвейн, перепуганный насмерть, машет сыну, просит:
– Иди к себе, Ганс, ложись. Сейчас все пройдет.
Комнату уже заливал тусклый, унылый свет серого утра, и тут он впервые увидел Анну, увидел ее такой, какой она стала и внешне, и внутренне. Он понял, как много еще содержания осталось в его жизни и как мало – в ее. У него есть политика, музыка, его день – это шестнадцать насыщенных часов, один богаче другого; у нее же нет ничего, ничего, ничего. Ей осталось только цепляться за него, а он, быть может, изредка ее погладит, как доброе, верное животное. Вдруг он понял, что такое все эти бесчисленные страхи и мелкие заботы, вызывающие в нем только досаду или в лучшем случае благодушное презрение. Все, с чем он сталкивался благодаря «Новостям», что открывалось ему из разговоров с сослуживцами и из переписки с читателями и всякого рода просителями, что с такой ужасающей ясностью предстало перед ним в «Сонете 66» Гарри Майзеля, – все это он вдруг ощутил всем своим существом, понимая, что и он разделил бы общую участь, если бы не Анна. Анна и только Анна оградила его от всех ужасов, а он этого не замечал, не хотел замечать. И вот он является домой, прошатавшись всю ночь, будит ее и скандалит оттого, что молоко не очень вкусно.
Она все еще лежит, зарывшись лицом в подушки. Куда девались ее красивые темно-каштановые волосы? Они поседели, потускнели. Но спина, вздрагивающая от всхлипываний, все еще такая, какую он любил двадцать лет назад. Бережно проводит он рукой по этой спине и, приглушая голос, ласково приговаривает:
– Не надо, Анна, не надо.
Еще некоторое время он сидит около жены, стараясь успокоить ее; затем тихонько ложится рядом и кладет ее голову к себе на грудь.
Ни он, ни она не произносят на слова; он чувствует себя глубоко виноватым. Он рад, что ей легче, что вспышка прошла. Она высвобождается из его объятий. Он как-то сразу чувствует всю усталость минувшего тяжелого дня и долгой ночи. Да, он устал, как пес. Единственное, что он еще чувствует, – это безграничная, мучительная усталость, переполняющая его. Он хочет что-то сказать Анне, но не в силах. Помимо воли он засыпает крепким глубоким сном.
13
Песенка о базельской смерти
– Удивляюсь, дорогой Визенер, – сказал Шпицци, и сияющая улыбка обнажила его прекрасные новые зубы, – что вы из-за такого пустяка пожаловали собственной персоной. – Он нагло и любезно смотрел в лицо Визенеру; хотя от всего облика этого человека веяло молодостью, в его светлых глазах иногда неожиданно мелькало по-стариковски хитрое ироническое выражение.
Разговор происходил в служебном кабинете фон Герке на улице Лилль. Шпицци был прав, Визенеру и самому было странно, что такое незначительное обстоятельство, как дело Беньямина, заставило его отправиться в посольство. Он, пожалуй, и сам жалел уже, что приехал. Однако побуждение, погнавшее его сюда, было слишком сильно.
Когда он читал бессмысленный и наглый лепет, которым Берлин ответил на швейцарскую ноту, и у него тоже возникло тягостное впечатление, будто дело уже, пожалуй, кончено и объекта спора не существует. Визенер не был сентиментален, он вряд ли смог бы объяснить, почему после множества других тупых, зверских злодеяний его так глубоко взволновало именно это; но так оно было. Думая о том, что Фрица Беньямина могли убить, он испытывал почти физическое отвращение, словно проглотил тухлую устрицу.
Шпицци это дело, по-видимому, не особенно трогало. Во всяком случае, он продолжал чуть-чуть подтрунивать над Визенером в своем обычном тоне, любезно и не без коварства.
– Видите, mon vieux, – глубокомысленно сказал он, – два месяца назад вы удивлялись, что я всполошился из-за некоего Беньямина и некоего Траутвейна. А теперь вы сами пожаловали сюда. Кстати, доставлены вам материалы о «Парижских новостях»? – осведомился он.
Визенер поблагодарил. Материалы получены. В этом деле Шпицци вел себя безукоризненно. Он послал ему, не ожидая письменного запроса со стороны Визенера, толстую папку с документами, касающимися «Парижских новостей», все досье – подробные ценные сведения, прежде всего об издателе Луи Гингольде. Имея на руках такие материалы, можно начать кампанию против «Парижских новостей» с большими шансами на успех. Почему не делает этого сам Шпицци? Ведь именно сейчас, когда история с Беньямином сошла не совсем гладко, ему не мешало бы выслужиться перед Берлином. Почему же он послал материалы Визенеру? По щедрости натуры? Или не хочет сам пачкать руки? Или ему это просто безразлично?
Но Визенер явился сюда не для того, чтобы читать в душе Шпицци, ему хотелось избавиться от преследовавших его сомнений. Его мучила мысль, что дело Беньямина – комедия, что вся эта пляска идет вокруг трупа. Несомненно, Леа или Рауль вскоре опять спросят его о Фридрихе Беньямине; что он ответит? Представляя это себе, он ежится, как в свое время в окопе, когда его донимали вши. Нет, он не доставит Шпицци удовольствия, не будет с ним говорить о материалах, касающихся «Парижских новостей», довольно он ходил вокруг да около, пора идти в открытую.
– Как по-вашему, дорогой Шпицци, – спросил он в упор, – дело Беньямина можно считать ликвидированным?
Господин фон Герке не замедлил уловить скрытый смысл вопроса. «Ликвидировано», сказал Визенер. Это был точный технический термин; человека «ликвидируют», «сплавляют», «убирают», и тем самым ликвидируется все дело. Шпицци уже и сам спрашивал себя, не ликвидировано ли таким путем дело Беньямина, он не возражал бы против такой развязки. Фрицхен Беньямин был ему безразличен, но вечная болтовня об этой нелепой истории действовала ему на нервы.
Так или иначе, не все ли равно Визенеру, чем кончилось похищение Беньямина? Шпицци чувствовал презрение к репортерскому зуду этого человека, он вскинул голову, слегка наклонил ее набок и надменно фыркнул.