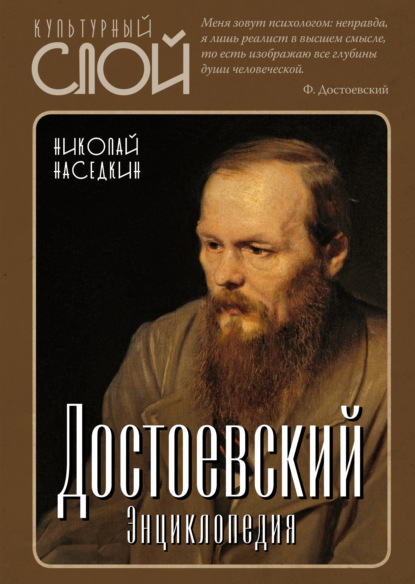По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Достоевский. Энциклопедия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
NN (Иван NN, генерал NN)(«Попрошайка»), герой малоизвестного рассказа Достоевского, опубликованного без подписи в газете-журнале «Гражданин» (1873), – столичный генерал, «…этот генерал был человек довольно чванный и неприступный, и особенно трудно было выпросить у него какое-нибудь рекомендательное письмо, даже близким знакомым…» Однако ж, как оказалось, генерал еще и скуповат, так что некоему Павлу Михайловичу С., ловкому психологу, удалось, напугав предварительно NN займом денег, получить от него нужную рекомендацию в четверть часа.
А – В(«Записки из Мертвого дома»), каторжник из дворян, один из двоих (вместе с Куликовым), кому удалось совершить побег. «Это был самый отвратительный пример, до чего может опуститься и исподлиться человек и до какой степени может убить в себе всякое нравственное чувство, без труда и без раскаяния. А – в был молодой человек, из дворян, о котором уже я отчасти упоминал, говоря, что он переносил нашему плац-майору все, что делается в остроге, и был дружен с денщиком Федькой. Вот краткая его история: не докончив нигде курса и рассорившись в Москве с родными, испугавшимися развратного его поведения, он прибыл в Петербург и, чтоб добыть денег, решился на один подлый донос, то есть решился продать кровь десяти человек для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наслаждениям, до которых он, соблазненный Петербургом, его кондитерскими и Мещанскими, сделался падок до такой степени, что, будучи человеком неглупым, рискнул на безумное и бессмысленное дело. Его скоро обличили; в донос свой он впутал невинных людей, других обманул, и за это его сослали в Сибирь, в наш острог, на десять лет. Он еще был очень молод, жизнь для него только что начиналась. Казалось бы, такая страшная перемена в его судьбе должна была поразить, вызвать его природу на какой-нибудь отпор, на какой-нибудь перелом. Но он без малейшего смущения принял новую судьбу свою, без малейшего даже отвращения, не возмутился перед ней нравственно, не испугался в ней ничего, кроме разве необходимости работать и расстаться с кондитерскими и с тремя Мещанскими. Ему даже показалось, что звание каторжного только еще развязало ему руки на еще большие подлости и пакости. «Каторжник, так уж каторжник и есть; коли каторжник, стало быть, уж можно подличать, и не стыдно». Буквально, это было его мнение. Я вспоминаю об этом гадком существе как об феномене. Я несколько лет прожил среди убийц, развратников и отъявленных злодеев, но положительно говорю, никогда еще в жизни я не встречал такого полного нравственного падения, такого решительного разврата и такой наглой низости, как в А-ве. <…> На мои глаза, во все время моей острожной жизни, А-в стал и был каким-то куском мяса, с зубами и с желудком и с неутолимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений, а за удовлетворение самого малейшего и прихотливейшего из этих наслаждений он способен был хладнокровнейшим образом убить, зарезать, словом, на все, лишь бы спрятаны были концы в воду. Я ничего не преувеличиваю; я узнал хорошо А-ва. Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренне никакой нормой, никакой законностью. И как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку. Это было чудовище, нравственный Квазимодо. Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способности. Нет, лучше пожар, лучше мор, чем такой человек в обществе!..» В другом месте об А-ве сказано еще определеннее: «низкое и подленькое создание, страшно развращенное, шпион и доносчик по ремеслу».
А-в – это реальное лицо, арестант Омского острога (где Достоевский отбывал 4 года каторги) 77. Аристов. Примечательно, что в черновых записях к «Преступлению и наказанию» А – вым именуется Свидригайлов.
АВДОТЬЯ ИГНАТЬЕВНА(«Бобок»), сластолюбивая дамочка, которая и при жизни мало чего стыдилась, жила в свое удовольствие и понятие о морали имела весьма смутное (развратила Клиневича, когда он был еще 14-летним пажом), и на кладбище лишь только услышала голос Молодого человека, которого только что похоронили, снова за свое: «Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! – восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. – Вот если б этакого подле положили!..» Неудивительно, что она первая с восторгом подхватила идею того же Клиневича – ничего не стыдиться и обнажиться: «Ах, как я хочу ничего не стыдиться! <…> Я ужасно, ужасно хочу обнажиться!..» Генерал Первоедов называет ее «криксой», то есть, по В. И. Далю, крикливой.
АГРАФЕНА(«Честный вор»), кухарка, прачка и «домоводка» Неизвестного, «автора» записок. Именно по ее протекции хозяин вынужден был пустить на квартиру Астафия Ивановича, который и рассказал в один из вечеров историю о «честном воре» Емельяне Ильиче (Емеле). «До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что, кроме ежедневных двух слов о том, чего приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере я более ничего не слыхал от нее. <…> Наконец я, после долгих усилий, узнал, что какой-то пожилой человек уговорил или как-то склонил Аграфену пустить его в кухню, в жильцы и в нахлебники. Что Аграфене пришло в голову, тому должно было сделаться; иначе, я знал, что она мне покоя не даст. В тех случаях, когда что-нибудь было не по ней, она тотчас же начинала задумываться, впадала в глубокую меланхолию, и такое состояние продолжалось недели две или три. В это время портилось кушанье, не досчитывалось белье, полы не были вымыты, – одним словом, происходило много неприятностей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина не в состоянии была составить решения, установиться на какой-нибудь собственно ей принадлежащей мысли. Но уж если в слабом мозгу ее каким-нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие, то отказать ей в исполнении значило на несколько времени морально убить ее…»
АЗОРКА(«Униженные и оскорбленные»), пес. Собака эта принадлежала когда-то дочери старика Смита и осталась как воспоминание о прежних счастливых временах, когда он еще не проклял горячо любимую дочь свою. Иван Петрович обратил при первой встрече внимание на старика во многом благодаря собаке: «…И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которая так на него похожа?
Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьдесят; да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывают никакие собаки, а во-вторых, отчего же мне, с первого раза, как я ее увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки; что она – собака необыкновенная; что в ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное; что это, может быть, какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде и что судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путами соединена с судьбою ее хозяина. Глядя на нее, вы бы тотчас же согласились, что, наверно, прошло уже лет двадцать, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет, или (чего же лучше?) как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице – господин впереди, а собака за ним следом, – то ее нос прямо касался полы его платья, как будто к ней приклеенный. <…> Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгуливают по белому свету в виде ходячих афишек к изданью…» Сцена смерти пса исполнена высокого трагизма: «Азорка, Азорка!» – тоскливо повторял старик и пошевелил собаку палкой, но та оставалась в прежнем положении.
Палка выпала из рук его. Он нагнулся, стал на оба колена и обеими руками приподнял морду Азорки. Бедный Азорка! Он был мертв. Он умер неслышно, у ног своего господина, может быть от старости, а может быть и от голода. Старик с минуту глядел на него, как пораженный, как будто не понимая, что Азорка уже умер; потом тихо склонился к бывшему слуге и другу и прижал свое бледное лицо к его мертвой морде. Прошла минута молчанья. Все мы были тронуты… Наконец бедняк приподнялся. Он был очень бледен и дрожал, как в лихорадочном ознобе…» Старик и сам в тот же день умер. Как констатировала позже его внучка Нети: «Мамашу не простил, а когда собака умерла, так сам умер…»
АКИМ АКИМЫЧ(«Записки из Мертвого дома»), каторжный из дворян в Омском остроге, бывший армейский прапорщик, получивший 12 лет каторги за то, что, служа на Кавказе начальником небольшой крепости, учинил самосуд над местным князьком-разбойником. «…редко видал я такого чудака, как этот Аким Акимыч. Резко отпечатался он в моей памяти. Был он высок, худощав, слабоумен, ужасно безграмотен, чрезвычайный резонер и аккуратен, как немец. Каторжные смеялись над ним; но некоторые даже боялись с ним связываться за придирчивый, взыскательный и вздорный его характер. Он с первого шагу стал с ними запанибрата, ругался с ними, даже дрался. Честен он был феноменально. Заметит несправедливость и тотчас же ввяжется, хоть бы не его было дело. Наивен до крайности: он, например, бранясь с арестантами, корил их иногда за то, что они были воры, и серьезно убеждал их не воровать. <…> Но, несмотря на то, что арестанты подсмеивались над придурью Акима Акимыча, они все-таки уважали его за аккуратность и умелость.
Арестанты на нарах в казарме острога.
Художник Н. Каразин
Не было ремесла, которого бы не знал Аким Акимыч. Он был столяр, сапожник, башмачник, маляр, золотильщик, слесарь, и всему этому обучился уже в каторге. Он делал все самоучкой: взглянет раз и сделает. Он делал тоже разные ящики, корзинки, фонарики, детские игрушки и продавал их в городе. Таким образом, у него водились деньжонки, и он немедленно употреблял их на лишнее белье, на подушку помягче, завел складной тюфячок. Помещался он в одной казарме со мною и многим услужил мне в первые дни моей каторги <…> Совершенно равнодушных, то есть таких, которым было бы все равно жить что на воле, что в каторге, у нас, разумеется, не было и быть не могло, но Аким Акимыч, кажется, составлял исключение. Он даже и устроился в остроге так, как будто всю жизнь собирался прожить в нем: все вокруг него, начиная с тюфяка, подушек, утвари, расположилось так плотно, так устойчиво, так надолго. Бивачного, временного не замечалось в нем и следа. Пробыть в остроге оставалось ему еще много лет, но вряд ли он хоть когда-нибудь подумал о выходе. Но если он и примирился с действительностью, то, разумеется, не по сердцу, а разве по субординации, что, впрочем, для него было одно и то же. Он был добрый человек и даже помогал мне вначале советами и кой-какими услугами; но, иногда, каюсь, невольно он нагонял на меня, особенно в первое время, тоску беспримерную, еще более усиливавшую и без того уже тоскливое расположение мое…» Прототип Акима Акимыча – Е. Белых.
АКУЛИНА АНКУДИМОВНА (Кудимовна)(«Записки из Мертвого дома» /«Акулькин муж»!), героиня вставного рассказа «Акулькин муж», подслушанного повествователем «Записок…» Горянчиковым в одну из бессонных ночей в госпитале – деревенская молодая баба (18 лет), которую муж (Шишков) бил из-за ревности смертным боем, а потом и вовсе зарезал, за что и угодил на каторгу. Характер Акулины особенно проявился в сцене, когда она обезумевшему окончательно от ревности мужу заявляет, что Фильку Морозова, который был ее женихом до Шишкова и загубил ее жизнь грязной сплетней, она «больше света и любит»…
АЛЕЙ («Записки из Мертвого дома»), каторжник, дагестанский татарин, младший из трех братьев арестантов. «Алей был не более двадцати двух лет, а на вид еще моложе. Его место на нарах было рядом со мною. Его прекрасное, открытое, умное и в то же время добродушно-наивное лицо с первого взгляда привлекло к нему мое сердце, и я так рад был, что судьба послала мне его, а не другого кого-нибудь в соседи. Вся душа его выражалась на его красивом, можно даже сказать – прекрасном лице. Улыбка его была так доверчива, так детски простодушна; большие черные глаза были так мягки, так ласковы, что я всегда чувствовал особое удовольствие, даже облегчение в тоске и в грусти, глядя на него. Я говорю не преувеличивая. На родине старший брат его (старших братьев у него было пять; два других попали в какой-то завод) однажды велел ему взять шашку и садиться на коня, чтобы ехать вместе в какую-то экспедицию. Уважение к старшим в семействах горцев так велико, что мальчик не только не посмел, но даже и не подумал спросить, куда они отправляются. <…> Все они ехали на разбой, подстеречь на дороге богатого армянского купца и ограбить его. Так и случилось: они перерезали конвой, зарезали армянина и разграбили его товар. Но дело открылось: их взяли всех шестерых, судили, уличили, наказали и сослали в Сибирь, в каторжные работы. Всю милость, которую сделал суд для Алея, был уменьшенный срок наказания: он сослан был на четыре года. Братья очень любили его, и скорее какою-то отеческою, чем братскою любовью. Он был им утешением в их ссылке, и они, обыкновенно мрачные и угрюмые, всегда улыбались, на него глядя, и когда заговаривали с ним (а говорили они с ним очень мало, как будто все еще считая его за мальчика, с которым нечего говорить о серьезном), то суровые лица их разглаживались, и я угадывал, что они с ним говорят о чем-нибудь шутливом, почти детском, по крайней мере они всегда переглядывались и добродушно усмехались, когда, бывало, выслушают его ответ. Сам же он почти не смел с ними заговаривать: до того заходила его почтительность. Трудно представить себе, как этот мальчик во все время своей каторги мог сохранить в себе такую мягкость сердца, образовать в себе такую строгую честность, такую задушевность, симпатичность, не загрубеть, не развратиться. Это, впрочем, была сильная и стойкая натура, несмотря на всю видимую свою мягкость. Я хорошо узнал его впоследствии. Он был целомудрен, как чистая девочка, и чей-нибудь скверный, цинический, грязный или несправедливый, насильный поступок в остроге зажигал огонь негодования в его прекрасных глазах, которые делались оттого еще прекраснее. Но он избегал ссор и брани, хотя был вообще не из таких, которые бы дали себя обидеть безнаказанно, и умел за себя постоять. Но ссор он ни с кем не имел: его все любили и все ласкали. Сначала со мной он был только вежлив. Мало-помалу я начал с ним разговаривать; в несколько месяцев он выучился прекрасно говорить по-русски, чего братья его не добились во все время своей каторги. Он мне показался чрезвычайно умным мальчиком, чрезвычайно скромным и деликатным и даже много уже рассуждавшим. Вообще скажу заранее: я считаю Алея далеко не обыкновенным существом и вспоминаю о встрече с ним как об одной из лучших встреч в моей жизни…»
Предполагаемым прототипом Алея был А. Оглы.
АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНОВИЧ(«Чужая жена и муж под кроватью»), старый муж дамы, под кровать которой спрятался ревнивец Иван Андреевич Шабрин – хотел разоблачить изменницу-жену, но ошибся квартирой. Александр Демьянович был «тяжелый муж, если только судить по его тяжелым шагам», страдал кашлем, геморроем, радикулитом и прочими старческими хворями. Шабрин, находившийся под кроватью не один, не успел вслед за молодым соседом улизнуть в удобную минуту, да к тому же задушил собачку хозяйскую Амишку, однако ж когда вылез и во всем признался – рассмешил и Александра Демьяновича, и его супругу, был прощен и отпущен с миром.
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ(«Униженные и оскорбленные»), журналист-антре-пренер, на которого работает Иван Петрович. В «Эпилоге» ему дана исчерпывающая характеристика: «Я застаю его, но уже на выходе. Он, в свою очередь, только что кончил одну не литературную, но зато очень выгодную спекуляцию и, выпроводив наконец какого-то черномазенького жидка, с которым просидел два часа сряду в своем кабинете, приветливо подает мне руку и своим мягким, милым баском спрашивает о моем здоровье. Это добрейший человек, и я, без шуток, многим ему обязан. Чем же он виноват, что в литературе он всю жизнь был только антрепренером? Он смекнул, что литературе надо антрепренера, и смекнул очень вовремя, честь ему и слава за это, антрепренерская, разумеется.
Он с приятной улыбкой узнает, что повесть кончена и что следующий номер книжки, таким образом, обеспечен в главном отделе, и удивляется, как это я мог хоть что-нибудь кончить, и при этом премило острит. Затем идет к своему железному сундуку, чтоб выдать мне обещанные пятьдесят рублей, а мне между тем протягивает другой, враждебный, толстый журнал и указывает на несколько строк в отделе критики, где говорится два слова и о последней моей повести. <…> Александр Петрович, конечно, милейший человек, хотя у него есть особенная слабость – похвастаться своим литературным суждением именно перед теми, которые, как и сам он подозревает, понимают его насквозь. Но мне не хочется рассуждать с ним об литературе, я получаю деньги и берусь за шляпу. Александр Петрович едет на Острова на свою дачу и, услышав, что я на Васильевский, благодушно предлагает довезти меня в своей карете.
– У меня ведь новая каретка; вы не видали? Премиленькая.
Мы сходим к подъезду. Карета действительно премиленькая, и Александр Петрович на первых порах своего владения ею ощущает чрезвычайное удовольствие и даже некоторую душевную потребность подвозить в ней своих знакомых. <…> Как он рад теперь, ораторствуя в своей карете, как доволен судьбой, как благодушен! Он ведет учено-литературный разговор, и даже мягкий, приличный его басок отзывается ученостью. Мало-помалу он залиберальничался и переходит к невинно-скептическому убеждению, что в литературе нашей, да и вообще ни в какой и никогда, не может быть ни у кого честности и скромности, а есть только одно «взаимное битье друг друга по мордасам», особенно при начале подписки. Я думаю про себя, что Александр Петрович наклонен даже всякого честного и искреннего литератора за его честность и искренность считать если не дураком, то по крайней мере простофилей. Разумеется, такое суждение прямо выходит из чрезвычайной невинности Александра Петровича…»
В лице этого литературного антрепренера и в этой сцене Достоевский вывел А. А. Краевского и свои взаимоотношения с ним.
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ(«Подросток»), доктор – один из немногих русских докторов в мире Достоевского: обыкновенно доктора здесь – немцы. Он «свой» человек в доме Версиловых-Долгоруковых (Татьяна Павловна Пруткова упоминает, что знала Александра Семеновича, когда ему еще десять лет было), и Аркадию Долгорукому поначалу чрезвычайно не понравился: «Ненавидел же я в те первые дни только одного доктора. Доктор этот был молодой человек и с заносчивым видом, говоривший резко и даже невежливо. Точно они все в науке, вчера только и вдруг, узнали что-то особенное, тогда как вчера ничего особенного не случилось; но такова всегда «средина» и «улица». Я долго терпел, но наконец вдруг прорвался и заявил ему при всех наших, что он напрасно таскается, что я вылечусь совсем без него, что он, имея вид реалиста, сам весь исполнен одних предрассудков и не понимает, что медицина еще никогда никого не вылечила; что, наконец, по всей вероятности, он грубо необразован, «как и все теперь у нас техники и специалисты, которые в последнее время так подняли у нас нос». Доктор очень обиделся (уж этим одним доказал, что он такое), однако же продолжал бывать. Я заявил наконец Версилову, что если доктор не перестанет ходить, то я наговорю ему что-нибудь уже в десять раз неприятнее…» Впоследствии, во время предсмертной болезни Макара Ивановича Долгорукого, максималист Подросток мнение о докторе меняет: «С доктором я, как-то вдруг так вышло, сошелся; не очень, но по крайней мере прежних выходок не было. Мне нравилась его как бы простоватость, которую я наконец разглядел в нем, и некоторая привязанность его к нашему семейству, так что я решился наконец ему простить его медицинское высокомерие и, сверх того, научил его мыть себе руки и чистить ногти, если уж он не может носить чистого белья. Я прямо растолковал ему, что это вовсе не для франтовства и не для каких-нибудь там изящных искусств, но что чистоплотность естественно входит в ремесло доктора, и доказал ему это…» Если Аркадий уверен, что «доктор был глуп и, естественно, не умел шутить», то знаток человеческих душ Макар Иванович в разговоре с Подростком характеризует доктора как человека, да и как специалиста так: «Ну что он знает, твой Александр Семеныч <…> милый он человек, а и не более…»
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА(«Неточка Незванова»), дочь княгини X – й (от первого мужа – «откупщика»), падчерица князя X – го, жена Петра Александровича, старшая сестра по матери Кати и Саши. В ее дом перешла Неточка Незванова жить из дома князей X – х. Эта молодая, красивая и не очень счастливая женщина стала самым для нее близким человеком. Неточка дважды набрасывает ее портрет: «Александра Михайловна была женщина лет двадцати двух, тихая, нежная, любящая; словно какая-то затаенная грусть, какая-то скрытая сердечная боль сурово оттеняли прекрасные черты ее. Серьезность и суровость как-то не шли к ее ангельски ясным чертам, словно траур к ребенку. Нельзя было взглянуть на нее, не почувствовав к ней глубокой симпатии. Она была бледна и, говорили, склонна к чахотке, когда я ее первый раз видела. Жила она очень уединенно и не любила ни съездов у себя, ни выездов в люди, – словно монастырка. Детей у нее не было…» Затем, прожив в доме Александры Михайловны восемь лет, Неточка, узнав ее ближе, еще раз набрасывает ее портрет – уже тридцатилетней женщины, матери двоих детей: «Черты лица ее никогда не изгладятся из моей памяти. Они были правильны, а худоба и бледность, казалось, еще более возвышали строгую прелесть ее красоты. Густейшие черные волосы, зачесанные гладко книзу, бросали суровую, резкую тень на окраины щек; но, казалось, тем любовнее поражал вас контраст ее нежного взгляда, больших детски ясных голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого, бледного лица, на котором отражалось подчас так много наивного, несмелого, как бы незащищенного, как будто боявшегося за каждое ощущение, за каждый порыв сердца – и за мгновенную радость, и за частую тихую грусть. Но в иную счастливую, нетревожную минуту в этом взгляде, проницавшем в сердце, было столько ясного, светлого, как день, столько праведно-спокойного; эти глаза, голубые как небо, сияли такою любовью, смотрели так сладко, в них отражалось всегда такое глубокое чувство симпатии ко всему, что было благородно, ко всему, что просило любви, молило о сострадании, – что вся душа покорялась ей, невольно стремилась к ней и, казалось, от нее же принимала и эту ясность, и это спокойствие духа, и примирение, и любовь. <… > Когда же – и это так часто случалось – одушевление нагоняло краску на ее лицо и грудь ее колыхалась от волнения, тогда глаза ее блестели как молния, как будто метали искры, как будто вся ее душа, целомудренно сохранившая чистый пламень прекрасного, теперь ее воодушевившего, переселялась в них. В эти минуты она была как вдохновенная. И в таких внезапных порывах увлечения, в таких переходах от тихого, робкого настроения духа к просветленному, высокому одушевлению, к чистому, строгому энтузиазму вместе с тем было столько наивного, детски скорого, столько младенческого верования, что художник, кажется, полжизни бы отдал, чтоб подметить такую минуту светлого восторга и перенесть это вдохновенное лицо на полотно <…>
Александра Михайловна жила в полном одиночестве; но она как будто и рада была тому. Ее тихий характер как будто создан был для затворничества. <…> Характер ее был робок, слаб. Смотря на ясные, спокойные черты лица ее, нельзя было предположить с первого раза, чтоб какая-нибудь тревога могла смутить ее праведное сердце. Помыслить нельзя было, чтоб она могла не любить хоть кого-нибудь; сострадание всегда брало в ее душе верх даже над самим отвращением, а между тем она привязана была к немногим друзьям и жила в полном уединении… Она была страстна и впечатлительна по натуре своей, но в то же время как будто сама боялась своих впечатлений, как будто каждую минуту стерегла свое сердце, не давая ему забыться, хотя бы в мечтанье. Иногда вдруг, среди самой светлой минуты, я замечала слезы в глазах ее: словно внезапное тягостное воспоминание чего-то мучительно терзавшего ее совесть вспыхивало в ее душе; как будто что-то стерегло ее счастье и враждебно смущало его. И чем, казалось, счастливее была она, чем покойнее, яснее была минута ее жизни, тем ближе была тоска, тем вероятнее была внезапная грусть, слезы: как будто на нее находил припадок. Я не запомню ни одного спокойного месяца в целые восемь лет. Муж, по-видимому, очень любил ее; она обожала его. Но с первого взгляда казалось, как будто что-то было недосказано между ними. Какая-то тайна была в судьбе ее…»
Страшная тайна, которая гнетет Александру Михайловну, – ее любовный роман с неким С. О., о котором муж знает и казнит ее своим суровым отношением. Неточка, случайно нашедшая прощальное письмо С. О. в книге, проникает в эту тайну и становится на сторону Александры Михайловны, начинает ненавидеть ее лицемерного и жестокого мужа. В конце опубликованной части романа Александра Михайловна уже тяжело больна, и дни ее, судя по всему, сочтены.
Исследователи отмечают черты сходства между этой кроткой и страдающей героиней раннего романа русского писателя и заглавной героиней романа О. де Бальзака «Евгения Гранде», переведенного Достоевским в 1844 г.
АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВНА(«Униженные и оскорбленные»), гражданская жена Маслобоева. Она сразу пришлась по сердцу Ивану Петровичу, повествователю: «Ровно в семь часов я был у Маслобоева. <…> Мне отворила прехорошенькая девушка лет девятнадцати, очень просто, но очень мило одетая, очень чистенькая и с предобрыми, веселыми глазками. Я тотчас догадался, что это и есть та самая Александра Семеновна, о которой он упомянул вскользь давеча, подманивая меня с ней познакомиться…» Маслобоев беспрестанно подшучивает над ее простодушием и ревностью, но, судя по всему, бесконечно любит, она отвечает ему взаимностью и они, вероятно, самые счастливые люди в романе.
При следующей встрече, к которой Александра Семеновна накрыла богатый стол и сама приоделась, повествователь снова явно залюбовался молодой женщиной: «За чайным столиком сидела Александра Семеновна хоть и в простом платье и уборе, но, видимо, изысканном и обдуманном, правда, очень удачно. Она понимала, что к ней идет, и, видимо, этим гордилась; встречая меня, она привстала с некоторою торжественностью. Удовольствие и веселость сверкали на ее свеженьком личике…»
АЛЕКСЕЙ(«Идиот»), камердинер в доме Епанчиных. Ливрейный слуга, отворив двери генеральской квартиры князю Мышкину, «сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за сорок лет и озабоченную физиономию и был специальный, кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену…» Именно этому камердинеру, «знающему себе цену», о котором Мышкин потом скажет-уточнит: «А вот что в передней сидит, такой с проседью, красноватое лицо», – Лев Николаевич в первые же минуты встречи живописует во всех подробностях о том, какие чувства испытывает человек, на шею которого вот-вот обрушится нож гильотины. Чуть погодя, как бы прорепетировав этот жуткий рассказ перед лакеем, он повторит его (украсив новыми психологическими подробностями) в гостиной уже перед генеральшей Епанчиной и тремя ее дочерьми – Александрой, Аделаидой и Аглаей.
АЛЕКСЕЙ (АЛЕША)(«Хозяйка»), молодой купец, друг детства Катерины. Родители их хотели в будущем поженить Алешу и Катерину, но она стала женой Мурина, а когда Алеша впоследствии нашел ее и уже уговорил бежать с ним, Мурин разгадал их замысел и, судя по всему, убил молодого купца.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ(«Игрок»), заглавный герой и одновременно автор записок, которые и составили роман. Это, как указано в подзаголовке, – «молодой человек», ему 25 лет, он служит домашним учителем у Генерала (сам с горькой иронией уточняет: «я принадлежу к свите генерала»). Терпит он свое положение из-за Полины, которую любит порой до ненависти, из-за которой пошел первый раз на рулетку, чтобы выиграть для нее 50 тысяч франков и заразился на всю оставшуюся жизнь болезненной страстью к игре. В этом отношении Игрок – герой автобиографический: Достоевский, передав ему одну из «капитальных» своих страстей, страсть к рулетке, показал изнутри всю притягательную и тяжкую силу этого сладкого недуга. Необходимо поэтому чуть поподробнее перечитать-процитировать игорную сцену из романа, дабы воочию увидеть-представить себе ту запредельную по напряжению и выплескам эмоций атмосферу «воксала»-казино, в каковой проводил немало часов сам писатель, более десяти лет сам бывший игроком:
«Я не рассчитывал, я даже не слыхал, на какую цифру лег последний удар, и об этом не справился, начиная игру, как бы сделал всякий чуть-чуть рассчитывающий игрок. Я вытащил все мои двадцать фридрихсдоров и бросил на бывший предо мною «passe».
<…> Я выиграл – и опять поставил все: и прежнее, и выигрыш.
<…> Опять выигрыш! Всего уж, стало быть, у меня восемьдесят фридрихсдоров! Я двинул все восемьдесят на двенадцать средних цифр (тройной выигрыш, но два шанса против себя) – колесо завертелось, и вышло двадцать четыре. Мне выложили три свертка по пятидесяти фридрихсдоров и десять золотых монет; всего, с прежним, очутилось у меня двести фридрихсдоров.
Я был как в горячке и двинул всю эту кучу денег на красную – и вдруг опомнился! И только раз во весь этот вечер, во всю игру, страх прошел по мне холодом и отозвался дрожью в руках и ногах. Я с ужасом ощутил и мгновенно сознал: что для меня теперь значит проиграть! Стояла на ставке вся моя жизнь!
– Rouge! – крикнул крупер, – и я перевел дух, огненные мурашки посыпались по моему телу. Со мною расплатились банковыми билетами; стало быть, всего уж четыре тысячи флоринов и восемьдесят фридрихсдоров! (Я еще мог следить тогда за счетом.)
Затем, помнится, я поставил две тысячи флоринов опять на двенадцать средних и проиграл; поставил мое золото и восемьдесят фридрихсдоров и проиграл. Бешенство овладело мною: я схватил последние оставшиеся мне две тысячи флоринов и поставил на двенадцать первых – так, на авось, зря, без расчета! <…>
– Quatre! – крикнул крупер. Всего, с прежнею ставкою, опять очутилось шесть тысяч флоринов. Я уже смотрел как победитель, я уже ничего, ничего теперь не боялся и бросил четыре тысячи флоринов на черную. Человек девять бросилось, вслед за мною, тоже ставить на черную. Круперы переглядывались и переговаривались. Кругом говорили и ждали.
Вышла черная. Не помню я уж тут ни расчета, ни порядка моих ставок. Помню только, как во сне, что я уже выиграл, кажется, тысяч шестнадцать флоринов; вдруг, тремя несчастными ударами, спустил из них двенадцать; потом двинул последние четыре тысячи на «passe» (но уж почти ничего не ощущал при этом; я только ждал, как-то механически, без мысли) – и опять выиграл; затем выиграл еще четыре раза сряду. Помню только, что я забирал деньги тысячами..»
Затем Алексей Иванович перешел в другую залу, третью, еще играл и очнулся только от вскрика-информации по-французски одного из наэлектризованных зрителей-болельщиков, что он выиграл уже сто тысяч форинтов, или двести тысяч франков! То есть в четыре раза больше, чем требовалось для спасения Полины. Вероятно, этот перебор и сыграл свою роковую роль в случившейся катастрофе. Алексей Иванович, уже ставший Игроком, опьяненный и отравленный игрой, игорной страстью, пересилившей страсть любовную, сам себе потом признается: он не обратил внимания, что Полина, отдаваясь ему в ту ночь, находилась в горячечном бреду, что отдалась она ему не из любви, а из ненависти, как бы в плату за пятьдесят тысяч франков, и что она уже никогда этого ему не простит…
Еще одна автобиографическая составляющая этого героя – его взаимоотношения с Полиной, воссоздающие перипетии любви самого Достоевского и А. П. Сусловой, послужившей прототипом героини. Образ Игрока имеет и литературные традиции: в частности в русской литературе – это Германн из «Пиковой дамы» А. С. Пушкина, Арбенин из «Маскарада» М. Ю. Лермонтова.
АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ(«Бесы»), камердинер Ставрогиных. Немногословный, педантичный старый слуга, преданный и Варваре Петровне Ставрогиной, и ее сыну Николаю Всеволодовичу.
АЛЕНА ИВАНОВНА(«Преступление и наказание»), процентщица; старшая сестра (сводная) Лизаветы. С ее «чином» в романе есть некоторая путаница: сначала она повествователем представлена как коллежская регистраторша (14-й класс), а буквально через две страницы сказано (в сцене подслушанного Раскольниковым разговора в трактире), что «студент говорит офицеру про процентщицу, Алену Ивановну, коллежскую секретаршу», а это уже гораздо выше – 10-й класс. «Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела…» Характеристику ей дает тот же студент в разговоре с товарищем своим в трактире: «Славная она, – говорил он, – у ней всегда можно денег достать. Богата как жид, может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгает. Наших много у ней перебывало. Только стерва ужасная…
И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Дает вчетверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по пяти и даже по семи берет в месяц и т. д. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьет поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребенка, тогда как Лизавета, по крайней мере, восьми вершков росту…» Именно студент своими рассуждениями о том, что «глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет» может своей смертью спасти от нищеты и гибели многих – окончательно подтолкнул Раскольникова на «преступление».
Процентщица. Художник П. Боклееский
И вот – сцена убийства: «Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать «заклад». Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу; она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой…»
Но Алена Ивановна еще явится во всем своем отвратительном виде Родиону Раскольникову в горячечном бредовом сне, когда ему приснилось, будто он опять пришел в ее квартиру: «В самую эту минуту, в углу, между маленьким шкапом и окном, он разглядел как будто висящий на стене салоп. <…> Он подошел потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвел он рукою салоп и увидал, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней: «боится!» – подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени, раз и другой. Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать; но и она еще ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, – так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота. Он бросился бежать…»
Достоевскому с самых ранних лет приходилось общаться с ростовщиками И ростовщицами (вроде А. И. Рейслер, Эриксан), так что материала для изображения Алены Ивановны, ее сути и образа жизни было у него более чем предостаточно. Он даже собирался написать отдельное произведение с таким названием – «Ростовщик».
АЛЕНА ФРОЛОВНА («Бесы»), няня Лизаветы Николаевны Тушиной. Эта эпизодическая героиня интересна тем, что ей дано имя реального человека – Алены Фроловны (Е. Ф. Крюковой) – няни из семьи Достоевских.
АЛМАЗОВ (Алмазов Андрей)(«Записки из Мертвого дома»), арестант, «начальник» Горянчикова на работах. «На алебастр назначали обыкновенно человека три-четыре, стариков или слабосильных, ну, и нас [дворян] в том числе, разумеется; да, сверх того, прикомандировывали одного настоящего работника, знающего дело. Обыкновенно ходил все один и тот же, несколько лет сряду, Алмазов, суровый, смуглый и сухощавый человек, уже в летах, необщительный и брюзгливый. Он глубоко нас презирал. Впрочем, он был очень неразговорчив, до того, что даже ленился ворчать на нас. <…> Алмазов обыкновенно молча и сурово принимался за работу; мы словно стыдились, что не можем настоящим образом помогать ему, а он нарочно управлялся один, нарочно не требовал от нас никакой помощи, как будто для того, чтоб мы чувствовали всю вину нашу перед ним и каялись собственной бесполезностью. А всего-то и дела было вытопить печь, чтоб обжечь накладенный в нее алебастр, который мы же, бывало, и натаскаем ему. На другой же день, когда алебастр бывал уже совсем обожжен, начиналась его выгрузка из печки. Каждый из нас брал тяжелую колотушку, накладывал себе особый ящик алебастром и принимался разбивать его. Это была премилая работа. Хрупкий алебастр быстро обращался в белую блестящую пыль, так ловко, так хорошо крошился. Мы взмахивали тяжелыми молотами и задавали такую трескотню, что самим было любо. И уставали-то мы наконец, и легко в то же время становилось; щеки краснели, кровь обращалась быстрее. Тут уж и Алмазов начинал смотреть на нас снисходительно, как смотрят на малолетних детей; снисходительно покуривал свою трубочку и все-таки не мог не ворчать, когда приходилось ему говорить. Впрочем, он и со всеми был такой же, а в сущности, кажется, добрый человек. <…> Положим, арестанты были народ тщеславный и легкомысленный в высшей степени, но все это было напускное. Арестанты могли смеяться надо мной, видя, что я плохой им помощник на работе. Алмазов мог с презрением смотреть на нас, дворян, тщеславясь перед нами своим умением обжигать алебастр. Но к гонениям и к насмешкам их над нами примешивалось и другое: мы когда-то были дворяне; мы принадлежали к тому же сословию, как и их бывшие господа, о которых они не могли сохранить хорошей памяти…»