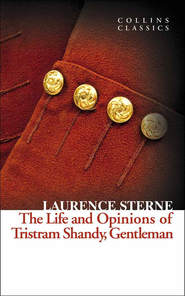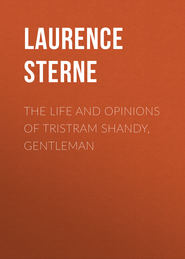По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Милорд,
Я утверждаю, что эти строки являются посвящением, несмотря на всю его необычайность в трех самых существенных отношениях: в отношении содержания, формы и отведенного ему места; прошу вас поэтому принять его как таковое и дозволить мне почтительнейше положить его к ногам вашего сиятельства, – если вы на них стоите, – что в вашей власти, когда вам угодно, – и что бывает, милорд, каждый раз, когда для этого представляется повод и, смею прибавить, всегда дает наилучшие результаты.
Милорд,
вашего сиятельства покорнейший,
преданнейший
и нижайший слуга,
Тристрам Шенди.
Глава IX
Торжественно довожу до всеобщего сведения, что вышеприведенное посвящение не предназначалось ни для какого принца, прелата, папы или государя, – герцога, маркиза, графа, виконта или барона нашей или другой христианской страны; – – а также не продавалось до сих пор на улицах и не предлагалось ни великим, ни малым людям ни публично, ни частным образом, ни прямо, ни косвенно; но является подлинно девственным посвящением, к которому не прикасалась еще ни одна живая душа.
Я так подробно останавливаюсь на этом пункте просто для того, чтобы устранить всякие нарекания или возражения против способа, каким я собираюсь извлечь из него побольше выгоды, а именно – пустив его честно в продажу с публичного торга; что я теперь и делаю.
Каждый автор отстаивает себя по-своему; – что до меня, то я терпеть не могу торговаться и препираться из-за нескольких гиней в темных передних, – и с самого начала решил про себя действовать с великими мира сего прямо и открыто, в надежде, что я таким образом всего лучше преуспею.
Итак, если во владениях его величества есть герцог, маркиз, граф, виконт пли барон, который бы нуждался в складном, изящном посвящении и которому подошло бы вышеприведенное (кстати сказать, если оно мало-мальски не подойдет, я его оставлю у себя), – – оно к его услугам за пятьдесят гиней; – – что, уверяю вас, на двадцать гиней дешевле, чем за него взял бы любой человек с дарованием.
Если вы еще раз внимательно его прочитаете, милорд, то убедитесь, что в нем вовсе нет грубой лести, как в других посвящениях. Замысел его, как видите, ваше сиятельство, превосходный, – краски прозрачные, – рисунок недурной, – или, если говорить более ученым языком – и оценивать мое произведение по принятой у живописцев 20-балльной системе, – – то я думаю, милорд, что за контуры мне можно будет поставить 12, – за композицию 9, – за краски 6, – за экспрессию 13 с половиной, – а за замысел, – если предположить, милорд, что я понимаю свой замысел и что безусловно совершенный замысел оценивается цифрой 20, – я считаю, нельзя поставить меньше чем 19. Помимо всего этого – произведение мое отличается соответствием частей, и темные штрихи конька (который является фигурой второстепенной и служит как бы фоном для целого) чрезвычайно усиливают светлые тона, сосредоточенные на лице вашего сиятельства, и чудесно его оттеняют; – кроме того, на tout ensemble[17. - На всем в целом (франц.).] лежит печать оригинальности.
Будьте добры, досточтимый милорд, распорядиться, чтобы названная сумма была выплачена мистеру Додсли[18. - Додсли Джемс (1724-1797) – лондонский книгопродавец-издатель, с которым 8 марта 1760 г. Стерн заключил договор на второе издание первых двух томов «Тристрама Шенди».] для вручения автору, и я позабочусь о том, чтобы в следующем издании глава эта была вычеркнута, а титулы, отличия, гербы и добрые дела вашего сиятельства помещены были в начале предыдущей главы, которая целиком, от слов: de gustibus non est disputandum – вместе со всем, что говорится в этой книге о коньках, но не больше, должна рассматриваться как посвящение вашему сиятельству. – Остальное посвящаю я Луне, которая, кстати сказать, из всех мыслимых патронов или матрон наиболее способна дать книге моей ход и свести от нее с ума весь свет.
Светлая богиня,
если ты не слишком занята делами Кандида и мисс Кунигунды[19. - Кунигунда – героиня философского романа Вольтера «Кандид», вышедшего в 1759 г.], – возьми под свое покровительство также Тристрама Шенди.
Глава X
Можно ли было считать хотя бы скромной заслугой помощь, оказанную повивальной бабке, и кому эта заслуга по праву принадлежала, – с первого взгляда представляется мало существенным для нашего рассказа; – – верно, однако же, то, что в то время честь эта была целиком приписана вышеупомянутой даме, жене священника. Но я, хоть убей, не могу отказаться от мысли, что и сам священник, пусть даже не ему первому пришел в голову весь этот план, – тем не менее, поскольку он принял в нем сердечное участие, как только был в него посвящен, и охотно отдал деньги, чтобы привести его в исполнение, – что священник, повторяю, тоже имел право на некоторую долю хвалы, – если только ему не принадлежала добрая половина всей чести этого дела.
Свету угодно было в то время решить иначе.
Отложите в сторону книгу, и я дам вам полдня сроку на сколько-нибудь удовлетворительное объяснение такого поведения света.
Извольте же знать, что лет за пять до так обстоятельно рассказанной вам истории с патентом повивальной бабки – священник, о котором мы ведем речь, сделал себя притчей во языцех окрестного населения, нарушив всякие приличия в отношении себя, своего положения и своего сана; – – – он никогда не показывался верхом иначе, как на тощем, жалком одре, стоившем не больше одного фунта пятнадцати шиллингов; конь этот, чтобы сократить его описание, был вылитый брат Росинанта – так далеко простиралось между ними семейное сходство; ибо он решительно во всем подходил под описание коня ламанчского рыцаря, – с тем лишь различием, что, насколько мне помнится, нигде не сказано, чтобы Росинант страдал запалом; кроме того, Росинант, по счастливой привилегии большинства испанских коней, тучных и тощих, – был несомненно конем во всех отношениях.
Я очень хорошо знаю, что конь героя был конем целомудренным, и это, может быть, дало повод для противоположного мнения; однако столь же достоверно и то, что воздержание Росинанта (как это можно заключить из приключения с ингуасскими погонщиками[20. - Приключение с ингуасскими погонщиками – рассказано в XV гл. первой части «Дон Кихота».]) проистекало не от какого-нибудь телесного недостатка или иной подобной причины, но единственно от умеренности и спокойного течения его крови. – И позвольте вам заметить, мадам, что на свете сплошь и рядом бывает целомудренное поведение, в пользу которого вы больше ничего не скажете, как ни старайтесь.
Но как бы там ни было, раз я поставил себе целью быть совершенно беспристрастным в отношении каждой твари, выведенной на сцену этого драматического произведения, – я не мог умолчать об указанном различии в пользу коня Дон Кихота; – – во всех прочих отношениях конь священника, повторяю, был совершенным подобием Росинанта, – эта тощая, эта сухопарая, эта жалкая кляча пришлась бы под стать самому Смирению.
По мнению кое-каких людей недалекого ума, священник располагал полной возможностью принарядить своего коня; – ему принадлежало очень красивое кавалерийское седло, подбитое зеленым плюшем и украшенное двойным рядом гвоздей с серебряными шляпками, да пара блестящих медных стремян и вполне подходящий чепрак первосортного серого сукна с черной каймой по краям, заканчивающейся густой черной шелковой бахромой, poudrе d’or[21. - С золотой ниткой (франц.).], – все это он приобрел в гордую весну своей жизни вместе с большой чеканной уздечкой, разукрашенной как полагается. – – Но, не желая делать свою лошадь посмешищем, он повесил все эти побрякушки за дверью своего рабочего кабинета и благоразумно снабдил ее вместо них такой уздечкой и таким седлом, которые в точности соответствовали внешности и цене его скакуна.
Во время своих поездок в таком виде по приходу и в гости к соседним помещикам священник – вы это легко поймете – имел случай слышать и видеть довольно много вещей, которые не давали ржаветь его философии. Сказать по правде, он не мог показаться ни в одной деревне, не привлекая к себе внимания всех ее обитателей, от мала до велика. – – Работа останавливалась, когда он проезжал, – бадья повисала в воздух на середине колодца, – – прялка забывала вертеться, – – – даже игравшие в орлянку и в мяч стояли, разинув рот, пока он не скрывался из виду; а так как лошадь его была не и быстроходных, то обыкновенно у него было довольно времени чтобы делать наблюдения – слышать ворчание людей серьезных – – и смех легкомысленных, – и все это он переноси с невозмутимым спокойствием. – Таков уж был его характер, – – от всего сердца любил он шутки, – а так как и самому себе он представлялся смешным, то говорил, что не может сердиться на других за то, что они видят его в том же свете, в каком он с такой непререкаемостью видит себя сам вот почему, когда его друзья, знавшие, что любовь к деньгам не является его слабостью, без всякого стеснения потешались над его чудачеством, он предпочитал, – вместо того чтобы называть истинную причину, – – хохотать вместе с ними над собой; и так как у него самого никогда не было на костях ни унции мяса и по части худобы он мог поспорить со своим конем, – то он подчас утверждал, что лошадь его как раз такова, какой заслуживает всадник; – что оба они, подобно кентавру, составляют одно целое. А иной раз и в ином расположении духа, недоступном соблазнам ложного остроумия, – священник говорил, что чахотка скоро сведет его в могилу, и с большой серьезностью уверял, что он без содрогания и сильнейшего сердцебиения не в состоянии взглянуть на откормленную лошадь и что он выбрал себе тощую клячу не только для сохранения собственного спокойствия, но и для поддержания в себе бодрости.
Каждый раз он давал тысячи новых забавных и убедительных объяснений, почему смирная, запаленная кляча была для него предпочтительнее горячего коня: – ведь на такой кляче он мог беззаботно сидеть и размышлять de vanitate mundi et fuga saeculi[22. - О суетности мира и быстротечности жизни (лат.).] с таким же успехом, как если бы перед глазами у него находился череп; – мог проводить время в каких угодно занятиях, едучи медленным шагом, с такой же пользой, как в своем кабинете; – – мог пополнить лишним доводом свою проповедь – или лишней дырой свои штаны – так же уверенно в своем седле, как в своем кресле, – между тем как быстрая рысь и медленное подыскание логических доводов являются движениями столь же несовместимыми, как остроумие и рассудительность. – Но на своем коне – он мог соединить и примирить все, что угодно, – мог предаться сочинению проповеди, отдаться мирному пищеварению и, если того требовала природа, мог также поддаться дремоте. – Словом, разговаривая на эту тему, священник ссылался на какие угодно причины, только не на истинную, – истинную же причину он скрывал из деликатности, считая, что она делает ему честь.
Истина же заключалась в следующем: в молодые годы, приблизительно в то время, когда были приобретены роскошное седло и уздечка, священник имел обыкновение или тщеславную прихоть, или назовите это как угодно, – – впадать в противоположную крайность. – В местности, где он жил, о нем шла слава, что он любил хороших лошадей, и у него в конюшне обыкновенно стоял готовый к седлу конь, лучше которого не сыскать было во всем приходе. Между тем ближайшая повитуха, как я вам сказал, жила в семи милях от той деревни, и притом в бездорожном месте, – таким образом, не проходило недели, чтобы нашего бедного священника не потревожили слезной просьбой одолжить лошадь; и так как он не был жестокосерд, а нужда в помощи каждый раз была более острая и положение родильницы более тяжелое, – то, как он ни любил своего коня, все-таки никогда не в силах был отказать в просьбе; в результате конь его обыкновенно возвращался или с ободранными ногами, или с костным шпатом, или с подседом; – или надорванный, или с запалом, – словом, рано или поздно от животного оставались только кожа да кости; – так что каждые девять или десять месяцев священнику приходилось сбывать с рук плохого коня – и заменять его хорошим.
Каких размеров мог достигнуть убыток при таком балансе communibus annis[23. - В течение года в среднем (лат.).], предоставляю определить специальному жюри из пострадавших при подобных же обстоятельствах; – но как бы он ни был велик, герой наш много лет нес его безропотно, пока, наконец, после многократного повторения несчастных случаев этого рода, не нашел нужным подвергнуть дело тщательному обсуждению; взвесив все и мысленно подсчитав, он нашел убыток не только несоразмерным с прочими своими расходами, но и независимо от них крайне тяжелым, лишавшим его всякой возможности творить другие добрые дела у себя в приходе. Кроме того, он пришел к выводу, что даже на половину проезженных таким образом денег можно было бы сделать в десять раз больше добра; – – но еще гораздо важнее всех этих соображений, взятых вместе, было то, что теперь вся его благотворительность сосредоточена была в очень узкой области, притом в такой, где, по его мнению, в ней было меньше всего надобности, а именно: простиралась только на детопроизводящую и деторождающую часть его прихожан, так что ничего не оставалось ни для бессильных, – ни для престарелых, – ни для множества безотрадных явлений, почти: ежечасно им наблюдаемых, в которых сочетались бедность, болезни и горести.
По этим соображениям решил он прекратить расходы на лошадь, но видел только два способа начисто от них отделаться, – а именно: или поставить себе непреложным законом никогда больше не давать своего коня, невзирая ни на какие просьбы, – или же махнуть рукой и согласиться ездить на жалкой кляче, в которую обратили последнего его коня, со всеми ее болезнями и немощами.
Так как он не полагался на свою стойкость в первом случае, – – то с радостным сердцем избрал второй способ, и хотя отлично мог, как выше было сказано, дать ему лестное для себя объяснение, – однако именно но этой причине брезгал прибегать к нему, готовый лучше сносить презрение врагов и смех друзей, нежели испытывать мучительную неловкость, рассказывая историю, которая могла бы показаться самовосхвалением.
Одна эта черта характера внушает мне самое высокое представление о деликатности и благородстве чувств почтенного священнослужителя; я считаю, что ее можно поставить наравне с самыми благородными душевными качествами бесподобного ламанчского рыцаря, которого, кстати сказать, я от души люблю со всеми его безумствами, и чтобы его посетить, совершил бы гораздо более далекий путь, чем для встречи с величайшим героем древности.
Но не в этом мораль моей истории: рассказывая ее, я имел в виду изобразить поведение света во всем этом деле. – Ибо вы должны знать, что, покуда такое объяснение сделало бы священнику честь, – ни одна живая душа до него не додумалась: – враги его, я полагаю, не желали, а друзья не могли. – – – Но стоило ему только принять участие в хлопотах о помощи повивальной бабке и заплатить пошлины за право заниматься практикой, – как вся тайна вышла наружу; все лошади, которых он потерял, да в придачу к ним еще две лошади, которых он никогда не терял, и также все обстоятельства их гибели теперь стали известны наперечет и отчетливо припоминались. – Слух об этом распространился, как греческий огонь[24. - Греческий огонь – зажигательная смесь, употреблявшаяся в морских войнах VII-XV вв.]. – «У священника приступ прежней гордости; он снова собирается кататься на хорошей лошади; а если это так, то ясно как день, что уже в первый год он десятикратно покроет все издержки по оплате патента; – – каждый может теперь судить, с какими намерениями совершил он это доброе дело».
Каковы были его виды при совершении как этого, так и всех прочих дел его жизни – или, вернее, какого были об этом мнения другие люди – вот мысль, которая упорно держалась в его собственном мозгу и очень часто нарушала его покой, когда он нуждался в крепком сне.
Лет десять тому назад герою нашему посчастливилось избавиться от всяких тревог на этот счет, – как раз столько же времени прошло с тех пор, как он покинул свой приход, – – а вместе с ним и этот свет, – и явился дать отчет судье, на решения которого у него не будет никаких причин жаловаться.
Но над делами некоторых людей тяготеет какой-то рок. Как ни старайся, а они всегда проходят сквозь известную среду, которая настолько их преломляет и искажает истинное их направление, – – – что при всем праве на признательность, которую заслуживает прямодушие, люди эти все-таки вынуждены жить и умереть, не получив ее.
Горестным примером этой истины был наш священник… Но чтобы узнать, каким образом это случилось – и извлечь для себя урок из полученного знания, вам обязательно надо прочитать две следующие главы, в которых содержится очерк его жизни и суждений, заключающий ясную мораль. – Когда с этим будет покончено, мы намерены продолжать рассказ о повивальной бабке, если ничто нас не остановит по пути.
Глава XI
Йорик было имя священника, и, что всего замечательнее, как явствует из очень старинной грамоты о его роде, написанной на крепком пергаменте и до сих пор прекрасно сохранившейся, имя это писалось точно так же в течение почти – – я чуть было не сказал, девятисот лет, – – но я не стану подрывать доверия к себе, сообщая столь невероятную, хотя и бесспорную истину, – – и потому удовольствуюсь утверждением, – что оно писалось точно так же, без малейшего изменения или перестановки хотя бы одной буквы, с незапамятных времен; а я бы этого не решился сказать о половине лучших имен нашего королевства, которые с течением лет претерпевали обыкновенно столько же превратностей и перемен, как и их владельцы. – Происходило это от гордости или от стыда (означенных владельцев)? – По правде говоря, я думаю, что иногда от гордости, а иногда от стыда, смотря по тому, что ввело их в искушение. А в общем, это темное дело, и когда-нибудь оно так нас перемешает и перепутает, что никто не будет в состоянии встать и поклясться, что «человек, содеявший то-то и то-то, был его прадед».
От этого зла род Йорика с мудрой заботливостью надежно оградил себя благоговейным хранением означенной грамоты, которая далее сообщает нам, что род этот – датского происхождения и переселился в Англию еще в царствование датского короля Горвендилла, при дворе которого предок нашего мистера Йорика по прямой линии, по-видимому, занимал видную должность до самой своей смерти. Что это была за должность, грамота ничего не говорит; – она только прибавляет, что уже лет двести, как ее за полной ненадобностью упразднили не только при датском дворе, но и при всех других дворах христианского мира.
Мне часто приходило в голову, что речь здесь не может идти ни о чем ином, как о должности главного королевского шута, – и что Йорик из Гамлета, трагедии нашего Шекспира, многие из пьес которого, вы знаете, основаны на достоверных документальных данных, – несомненно является этим самым Йориком.
Мне некогда заглянуть в Датскую историю Саксона Грамматика[25. - Саксон Грамматик – автор полулегендарной истории Дании, живший во второй половине XII в.], чтобы проверить правильность всего этого; – но если у вас есть досуг и вам нетрудно достать книгу, вы можете это сделать ничуть не хуже меня.
В моем распоряжении при поездке по Дании со старшим сыном мистера Нодди, которого я сопровождал в 1741 году в качестве гувернера, обскакав с ним с головокружительной быстротой большинство стран Европы (об этом своеобразном путешествии, совершенном совместно, дан будет занимательнейший рассказ на дальнейших страницах настоящего произведения), – в моем распоряжении, повторяю, было при этой поездке лишь столько времени, чтобы удостовериться в справедливости одного наблюдения, сделанного человеком, который долго прожил в той стране, – – а именно, что «природа не была ни чрезмерно расточительна, ни чрезмерно скаредна, наделяя ее обитателей гениальными или выдающимися способностями; – но, подобно благоразумной матери, выказала умеренную щедрость к ним всем и соблюла такое равенство при распределении своих даров, что в этом отношении, можно сказать, привела их к одному знаменателю; таким образом, вы редко встретите в этом королевстве человека выдающихся способностей; но зато во всех сословиях найдете много доброго здравого смысла, которым никто не обделен», – что, по моему мнению, совершенно правильно.
У нас, вы знаете, дело обстоит совсем иначе; – все мы представляем противоположные крайности в этом отношении; – вы либо великий гений – либо, пятьдесят против одного, сэр, вы набитый дурак и болван; – не то чтобы совершенно отсутствовали промежуточные ступени, – нет, – мы все же не настолько беспорядочны; – однако две крайности – явление более обычное и чаще встречающееся на нашем неустроенном острове, где природа так своенравно и капризно распределяет свои дары и задатки; даже удача, посещая нас своими милостями, действует не более прихотливо, чем она.
Это единственное обстоятельство, когда-либо колебавшее мою уверенность относительно происхождения Йорика; в жилах этого человека, насколько я его помню и согласно всем сведениям о нем, какие мне удалось раздобыть, не было, по-видимому, ни капли датской крови; очень возможно, что за девятьсот лет вся она улетучилась: – – не хочу теряться в праздных домыслах по этому поводу; ведь отчего бы это ни случилось, а факт был тот – что вместо холодной флегмы и правильного соотношения здравого смысла и причуд, которые вы ожидали бы найти у человека с таким происхождением, – он, напротив, отличался такой подвижностью и легковесностью, – казался таким чудаком во всех своих повадках, – – столько в нем было жизни, прихотей и ga?tе de coeur[26. - Своенравности (франц.).], что лишь самый благодатный климат мог бы все это породить и собрать вместе. Но при таком количестве парусов бедный Йорик не нес ни одной унции балласта; он был самым неопытным человеком в практических делах; в двадцать шесть лет у него было ровно столько же уменья править рулем в житейском море, как у шаловливой тринадцатилетней девочки, не подозревающей ни о каких опасностях. Таким образом, в первое же плавание свежий ветер его воодушевления, как вы легко можете себе представить, гнал его по десяти раз в день на чей-нибудь чужой такелаж; а так как чаще всего на пути его оказывались люди степенные, люди, никуда не спешившие, то, разумеется, злой рок чаще всего сталкивал его именно с такими людьми. Насколько мне известно, в основе подобных fracas[27. - Сумятица (франц.).] лежало обыкновенно какое-нибудь злополучное проявление остроумия; – ибо, сказать правду, Йорик от природы чувствовал непреодолимое отвращение и неприязнь к строгости; – – не к строгости как таковой; – – когда надо было, он бывал самым строгим и самым серьезным из смертных по целым дням и неделям сряду; – но он терпеть не мог напускной строгости и вел с ней открытую войну, если она являлась только плащом для невежества или слабоумия; в таких случаях, попадись она на его пути под каким угодно прикрытием и покровительством, он почти никогда не давал ей спуску.
Иногда он говорил со свойственным ему безрассудством, что строгость – отъявленная пройдоха, прибавляя: – и преопасная к тому же, – так как она коварна; – по его глубокому убеждению, она в один год выманивает больше добра и денег у честных и благонамеренных людей, чем карманные и лавочные воры в семь лет. – Открытая душа весельчака, – говорил он, – не таит в себе никаких опасностей, – разве только для него самого; – между тем как самая сущность строгости есть задняя мысль и, следовательно, обман; – это старая уловка, при помощи которой люди стремятся создать впечатление, будто у них больше ума и знания, чем есть на самом деле; несмотря на все свои претензии, – она все же не лучше, а зачастую хуже того определения, которое давно уже дал ей один французский остроумец[28. - Один французский остроумец. – Как обнаружил Маркс (письмо Энгельсу от 26 июня 1869 г., К. Mapкс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2, т. 32, стр. 261), остроумцем этим является Ларошфуко (1613-1680), автор сборника «Максимы и моральные размышления». В подлиннике это определение читается так: «La gravitе est un myst?re du corps, inventе pour cacher les dеfauts de l’esprit». (267-я максима).], – а именно: строгость – это уловка, изобретенная для тела, чтобы скрыть изъяны ума; – это определение строгости, – говорил весьма опрометчиво Йорик, – заслуживает начертания золотыми буквами.
Но, говоря по правде, он был человек неискушенный и неопытный в свете и с крайней неосторожностью и легкомыслием касался в разговоре также и других предметов, относительно которых доводы благоразумия предписывают соблюдать сдержанность. Но для Йорика единственным доводом было существо дела, о котором шла речь, и такие доводы он обыкновенно переводил без всяких обиняков на простой английский язык, – весьма часто при этом мало считаясь с лицами, временем и местом; – таким образом, когда заговаривали о каком-нибудь некрасивом и неблагородном поступке, – он никогда ни секунды не задумывался над тем, кто герой этой истории, – какое он занимает положение, – или насколько он способен повредить ему впоследствии; – но если то был грязный поступок, – – без околичностей говорил: – – «такой-то и такой-то грязная личность», – и так далее. – И так как его замечания обыкновенно имели несчастье либо заканчиваться каким-нибудь bon mot[29. - Остротой (франц.).], либо приправляться каким-нибудь шутливым или забавным выражением, то опрометчивость Йорика разносилась на них, как на крыльях. Словом, хотя он никогда не искал (но, понятно, и не избегал) случаев говорить то, что ему взбредет на ум, и притом без всякой церемонии, – – в жизни ему представлялось совсем не мало искушений расточать свое остроумие и свой юмор, – свои насмешки и свои шутки. – – Они не погибли, так как было кому их подбирать.
Что отсюда последовало и какая катастрофа постигла Йорика, вы прочтете в следующей главе.
Глава XII
Закладчик и заимодавец меньше отличаются друг от друга вместительностью своих кошельков, нежели насмешник и осмеянный вместительностью своей памяти. Но вот в чем сравнение между ними, как говорят схолиасты[30. - Схолиаст – толкователь древних текстов.], идет на всех четырех (что, кстати сказать, на одну или две ноги больше, чем могут похвастать некоторые из лучших сравнений Гомера): – один добывает за ваш счет деньги, другой возбуждает на ваш счет смех, и оба об этом больше не думают. Между тем проценты в обоих случаях идут и идут; – периодические или случайные выплаты их лишь освежают память о содеянном, пока наконец, в недобрый час, – вдруг является к тому и другому заимодавец и своим требованием немедленно вернуть капитал вместе со всеми наросшими до этого дня процентами дает почувствовать обоим всю широту их обязательств.
Так как (я ненавижу ваши если) читатель обладает основательным знанием человеческой природы, то мне незачем распространяться о том, что мой герой, оставаясь неисправимым, не мог не слышать время от времени подобных напоминаний. Сказать по правде, он легкомысленно запутался во множестве мелких долгов, этого рода, на которые, вопреки многократным предостережениям Евгения[31. - Евгений. – Под этим именем Стерн выводит как в «Тристраме Шенди», так и в «Сентиментальном путешествии» своего приятеля Холла-Стивенсона, с которым он подружился, еще будучи студентом Кембриджского университета. Холл, человек весьма эксцентричный, любил бросать вызов английскому лицемерию и чопорности. В его замке собирался кружок веселых людей, «бесноватых», в число которых входил и Стерн. В своем романе он иронически наделяет Евгения «благоразумием».], не обращал никакого внимания, считая, что, поскольку делал он их не только без всякого злого умысла, – но, напротив, от чистого сердца и по душевной простоте, из желания весело посмеяться, – все они со временем преданы будут забвению.