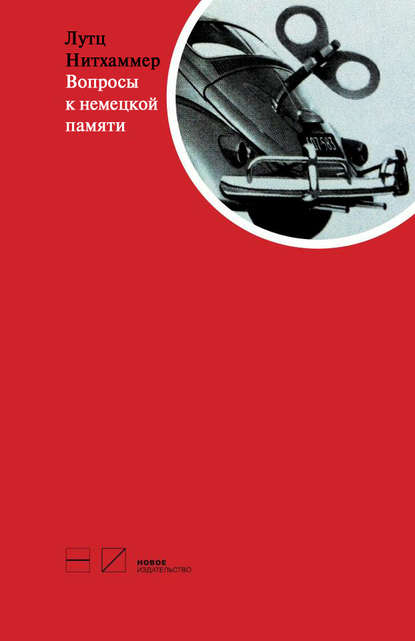По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Странное было чувство, я ж ведь все эти годы, девятнадцать лет, работала и вдруг – все. Это так скверно было. Не знала совершенно, что с собой делать.
Муж говорит:
И тут ей пришлось заботиться о том, чтоб каждый день на столе что-то было, так?
А она еще раз возвращается к сказанному:
У меня вдруг совсем стала другая жизнь. Раньше у меня столько денег в распоряжении было. Я там зарабатывала… я из девочек больше всех зарабатывала. Я зарабатывала больше, чем женатый мастер с детьми. У меня тогда очень много денег было в распоряжении, это было тогдашними деньгами 375 марок, это и теперешними было бы очень много… Как бы то ни было, у меня денег было очень много в распоряжении, я могла деньгами разбрасываться. Я постоянно ездила в отпуск и ни в чем себе не отказывала… и вдруг у меня вообще ничего в распоряжении не стало. Все у меня кончилось.
Профессиональная травма вышедшей замуж женщины: в какой мере можно считать ее воспоминанием о войне? Может быть, случай Эрики фом Энд – лишь один из множества примеров так называемого женского жизненного цикла, отличающийся от прочих, может быть, только тем, что эта женщина особенно хорошо работала и особенно хорошо умеет рассказывать? Но так называемая стандартная женская биография и есть та завеса, которая покрывает профессиональные качества работающих женщин. Отклонения от стандарта в случае Эрики фом Энд – другого рода, исторические: поворот наступает поздно, замужество в 33 года – это редкость, особенно среди детей рабочих. Работа в жизни этой женщины оказалась не просто временным эпизодом: жена достигла в профессиональной сфере больше, чем муж. Уход на роль домохозяйки поначалу гнетет ее, шансов на возвращение в профессию после того, как дети встанут на ноги, немного. Однако карьерный взлет Эрики объяснялся не только поздним замужеством, но – и даже в большей степени – условиями военной экономики: частично он был вызван необходимостью поддерживать работоспособность предприятия, частично – стремлением сохранить за мобилизованным работником-мужчиной возможность возвращения на должность. Оба эти обоснования впоследствии оказались иррелевантными: завод был разбомблен, а ушедший на войну сотрудник не вернулся. Зато госпожа фом Энд закрепилась на месте, показала себя с хорошей стороны, в тяжелейших внешних обстоятельствах (а войну она может воспринимать только как внешнее обстоятельство) сделалась почти незаменимой и наслаждалась достигнутым положением и окладом.
Но одновременно она на протяжении пятнадцати лет поддерживала знакомство с мужчиной, отношения с которым прежде были не очень близкими – их всегда считали братом и сестрой, – а во время войны наконец с ним обручилась. Благодаря этой другой стороне своей женской роли она вступает в конфликт со своими профессиональными интересами, усиливающийся из-за ее происхождения из католической пролетарской среды. Война делает ситуацию сверхнапряженной, и выхода из конфликта поначалу не видно: для вернувшегося солдата эта женщина все еще коллега по работе и по стенографическому обществу, которая теперь, после того как война сделала ее на время заведующей отделом, должна – и хочет – в полной мере стать женщиной. Оба они правоверные католики и не допускают, чтобы их жизни помешала диспропорция между хорошим профессиональным положением жены, которая должна теперь с работы уйти, и жалким профессиональным положением мужа, от которого теперь все будет зависеть. Молодые расписываются за пять месяцев до настоящей свадьбы, т. е. венчания в церкви, чтобы за это время приобрести право на квартиру в родительском доме: какой фантастический проект в условиях послевоенной разрухи!
Он: Да, а потом мы поженились.
Она: Тогда у нас на двоих было меньше, чем до того у меня одной было. Все по-другому стало!.. Так, чуть-чуть на хозяйство…
Он: Я помню, как я хотел, чтоб мне отпуск дали на свадьбу, я тогда всего три месяца проработал в отделе. Пошел к шефу. «Что? – он говорит – Жениться захотели? В такое время? Если вам женщина нужна, так их везде навалом!» А я ему сказал: «Господин Б., вы ничего не слыхали про то, что супруга вверяется человеку Богом?» Он глядит на меня, молчит. Напротив сидел господин К., который тоже верующий был, так он ухмыльнулся. Ну я и пошел. А потом женился. Отпуск дали.
4. Чем все кончилось
Бабетта Баль {16} жила в шахтерском поселке на севере Рурского бассейна, ее отец и тогдашний муж были горняками, а сама она до того, как в 1934 году вышла замуж, служила в разных местах.
Появилась малышка, и мы получили еще от государства 250 марок, т. е. от Гитлера… «Никаких долгов, – говорит муж, – теперь заживем». И еще дочь у него была, гордость его. А чем все кончилось? Война пришла. Во время войны мы еще неплохо жили, дети все получали карточки, по которым масло давали, а муж мой на шахте тоже карточки получал, и потом у нас сад большой был. Питались-то только из сада…
По сравнению с послевоенным голодом пропитание во время войны не было проблемой. Политических неприятностей у Бабетты тоже не было, потому что она верила в Гитлера, хотя в победу в войне и не верила; а муж ее был в НСДАП и в СА (она взносов туда не платила) и в отряде охраны шахты. И тем не менее госпожа Баль во время войны жила хуже своих сестер, однако виновата в этом была главным образом не война. Одна сестра получала очень хорошую пенсию за мужа, который в начале войны погиб в результате несчастного случая на шахте, будучи одним из наиболее высокооплачиваемых работников. Муж другой сестры погиб на фронте; как вдова воина с тремя детьми она получала пенсию в целых 330 марок ежемесячно. А муж Бабетты, которого в армию не призвали, в 1943 году заболел диабетом; будучи инвалидом, он в 31 год получал пенсию 45 марок, и еще столько же семья из пяти человек получала от службы социального обеспечения. Жить на такие деньги было трудно, но, по всей видимости, можно. Им разрешили остаться жить в шахтерском поселке, в небольшом доме на две семьи. Сначала они там жили вместе с родителями мужа, а после того, как тех эвакуировали, госпожа Баль с детьми могла пользоваться всем домом одна; муж часто лежал в больнице.
А в остальном, рассказывая о войне, Бабетта Баль говорит о бомбежках, привычных действиях во время тревог и налетов, об акушерской станции в бомбоубежище (там ее сестра незадолго до окончания войны родила близнецов), о соседской взаимопомощи и о том, что во время бомбардировок, убегая в подвал, люди не запирали входные двери и никогда ни у кого ничего не было украдено; вспоминает состоятельных людей, которые хранили свое серебро, замаскированное под «перевязочный материал», в общем бомбоубежище, подневольных рабочих из России, которым она всегда прямо на улице давала хлеб и которые жили в лагере, «сметенном с лица земли» незадолго до прихода американцев, и последнем авианалете на Страстной неделе в 1945 году, когда бомба попала в их дом, – тоже перед самым приходом американцев.
О своем поведении во время бомбежек Бабетта Баль сообщает как о бесстрашной, профессиональной, рутинной деятельности: у нее был особый слух на самолеты, она умела различать их типы и национальную принадлежность, знала, каких надо особо опасаться; как правило, она только спускалась в подвал, а не шла, как почти все остальные, в бомбоубежище; благодаря этому она видела больше других и не ощущала себя запертой в замкнутом пространстве. Часто она предчувствовала приближавшийся налет еще до того, как на шахте объявляли тревогу. Когда по вечерам ждали тревоги и убивали время за играми, то после объявления предварительной тревоги на шахте играли еще одну партию в «Не сердись!» – после этого как раз оставалось достаточно времени для того, чтобы добежать до бомбоубежища. Взаимодействие с вездесущей смертельной опасностью оставляет воспоминания, которые отличаются интенсивностью переживания и одновременной притупленностью восприятия человеческих отношений:
Я сижу в бомбоубежище, а наверху там была такая большая камера, там отдельно роженицы были, там была акушерка, и сестра моя там лежала, и тут бомбоубежище закачалось, люди закричали, люди закричали и акушерка, а там сверху была такая дыра для воздуха, это они пробили, потому что так-то там дыры никакой не было, и тогда акушерка сказала, она и до того у нас была, меня-то не она принимала, а мою сестру она принимала, и детей моих она принимала, и у сестры моей детей она принимала, и теперь она там тоже в бомбоубежище была с остальными женщинами. «А ну, Бетти, – говорит, – сходи-ка там наверху закрой крышку»; там была такая пробка железная с такой цепочкой, и вот на такой комод-умывальник, старый такой, мамочки мои, это мне надо было бы на цыпочки встать, чтоб… я доверху не достала, потому что очень высоко было. Она говорит: «На, вот ящик, – говорит, – встань на него». И я эту крышку не смогла туда засунуть, из-за давления воздуха, и она мне обратно по голове как даст, но знаете, раньше никогда ничего не знали, если что случалось, знаете, я эту крышку сумела засунуть, и вдруг она говорит: «Бог ты мой, женщина-то кровью истечет, женщина кровью истечет, что мне делать, тут женщина кровью истекает…»
В этой истории, где сплавились бытовые подробности и героические стороны борьбы за выживание в импровизированном родильном отделении бомбоубежища, самое загадочное – это последняя фраза. При первом прочтении я подумал, что поранилась, закрывая люк в потолке, сама рассказчица, однако из последующего хода рассказа вытекало, что она же потом и привела к истекавшей кровью женщине врача. Но остается непонятно, кто и почему истекал кровью: была ли это ее сестра, которая рожала близнецов, или другая женщина? Была ли она ранена при сотрясении бункера взрывной волной или, может быть, даже осколками, залетевшими через вентиляционное отверстие, или она только что родила? Взаимосвязь опасностей стала иррелевантной, точно так же, как стали взаимозаменяемыми действующие лица. История держится только на рассказе о действиях самой Бабетты и акушерки, осуществляющей родительскую власть в этом по-соседски открытом, как бы семейном сообществе товарищей по несчастью. Воспоминание живет именно этим описанием активности, и ее материальные инструменты (крышка, умывальник, ящик) встают перед глазами гораздо конкретнее, чем люди, ради которых совершаются действия.
Этот диссонанс между ярким воспоминанием о предметах и бледным о людях в ситуации сверхнапряженной борьбы, которая отчасти и велась ради выживания этих других людей, нередко встречается в рассказах госпожи Баль о войне. Например, когда она долго говорит о разных степенях воздушной тревоги и типах самолетов, но лишь походя упоминает, что во время бомбежек она, как правило, не находилась вместе со своей семьей, потому что муж с детьми шел в бомбоубежище, а Бабетта «редко в бомбоубежище бывала, честно вам скажу, мне всегда надо было все видеть». Другое воспоминание – о лагере иностранных рабочих, который был «сметен с лица земли» под конец войны; он располагался там, где сегодня стоит электростанция, поодаль от города. В истории рассказывается о том, как она уже после оккупации вместе с соседями с фонариком ночью отправляется в этот лагерь, потому что кто-то сказал, что помнит, где там в подвале находилась кухня, и они хотят утащить или перепрятать в надежное место оставшиеся там картофель и другие продукты. Мысль о людях здесь молчит: о том, что Бабетта увидела в лагере, говорится всего одной фразой:
Понимаете, я ведь там бывала тоже. И я это видела и всякий раз думала: «Бог ты мой». Но там все сметено было… Там картошка была…
И продолжается рассказ о том, что они, испугавшись американцев, все-таки сбежали, а другие нашли ту кухню, но взятым оттуда маргарином не поделились.
Наиболее выпукло такая структура воспоминания проявляется в рассказе госпожи Баль о последних двух неделях войны на Пасху 1945 года, когда один авианалет сменял другой, большинство людей вовсе не выходили из бомбоубежища, а она и трое ее детей, надев на себя по два слоя одежды, боролись с холодом и сидели дома, рискуя утратить все свое имущество; в конце концов на их улице упало несколько тяжелых бомб, одна из которых разрушила их дом. Рассказы о бомбардировке дома, о попытках спасти его от пожара, о бомбе, которая, не разорвавшись, пробила дом насквозь, о том, как семья нашла пристанище у родни и восстанавливала дом, слишком подробны, чтобы их цитировать. Достаточно одного-двух фрагментов:
Там ни одной черепицы на крыше не осталось. Там ни одного стекла в окнах не осталось, ничего. Вся квартира была оконным стеклом усыпана. И началось: сначала из стойла сняли перегородки, покрыли крышу. Дыру закрыли, где бомба прошла. Другой сосед, у того был там наверху такой… кухонный шкаф, можете себе представить, спальня его вся разнесена была. А мы раньше этот кухонный шкаф… я вам так объясню: тут вот у нас был такой большой шкаф, прямо сквозь него бомба прошла, сквозь шкаф, только дыра, потому что у моей соседки, т. е. вот тут рядом со мной, прошла через кухню, одни щепки и все, у них внизу там была мойка и у меня на другой стороне мойка, и там у нас кафель был, на земле тоже такие толстые каменные плиты, и там она застряла, там она грохнула. И вот теперь лежала там тварь эта… Потом уже оккупация была…
В Страстную субботу, т. е. явно не позже, чем через день-два после бомбардировки поселка, она вместе со своей сестрой, жившей в уцелевшем многоквартирном доме-казарме неподалеку, попыталась сходить в свой прежний дом.
Я говорю: «Давай, – говорю, – приберем… Ой, бегом отсюда, – говорю, – там бомба лежит у соседей». Выбежали обратно. К сестре моей пошли. Страстная суббота была. У моей сестры наверху. Ну, там еще ничего было. Огонь развели и так далее. Тем временем муж мой умер, в Страстную пятницу. Знаете, как все это выглядело, такой кавардак, все было все равно, знаете, все друг другу, совершенно это не осозналось даже.
Бабетта Баль в одном предложении упомянула, что в Страстную пятницу умер ее муж. Поскольку больше она к этому не вернулась, интервьюер спросила ее, умер ли ее муж именно в Страстную пятницу. «Да, да, в Страстную пятницу». «Но не от бомбежки», – уточняет интервюер.
Нет-нет, так. А мы тогда были там у сестры. И там у бомбоубежища столько погибло, там на убежище бомбу сбросили. И тогда, раз муж мой умер, они сразу и его тоже на кладбище забрали. Понимаете. Только вот они лежали все не в морге, а перед моргом. Это я вам скажу, это, это, это я в жизни не забуду. Ну вот, а потом я там у сестры своей…
Можно предположить, что господин Баль во время или после налета оставался в бомбоубежище и там умер от сахарного диабета; возможно, погиб он и иначе. Мы этого не знаем. Бабетта Баль рассказывает дальше – о том, как обезвреживали бомбу, как восстанавливали водопровод, как встретились с солдатами оккупационных войск, как жили вместе с родственниками. Но мы знаем, что человек, который умер «так» в Страстную пятницу, был «большой любовью» Бабетты: это она в другом месте неоднократно подтверждает в ответ на вопросы интервьюера, добавляя с характерной для этих мест будничностью: