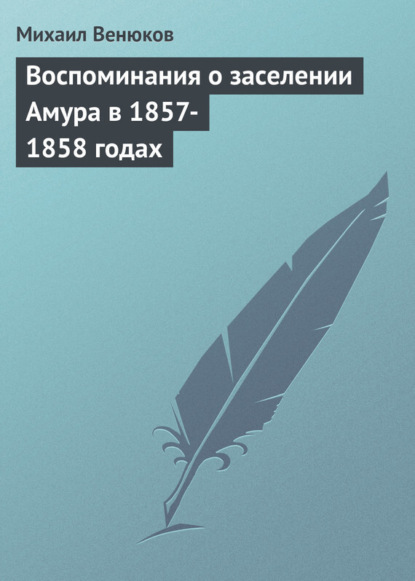По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воспоминания о заселении Амура в 1857-1858 годах
Автор
Год написания книги
1879
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вот, чтобы выдвинуть способного редактора официальных бумаг, Муравьев не затруднился выхлопотать ему в одном и том же году два чина и место начальника штаба, с сохранением притом звания члена Совета Главного управления Восточной Сибири, что давало в сумме до 6000 рублей годового содержания на 28–29 году жизни и на 10-11-м службы. Кажется, что из всех созданных Муравьевым карьер эта была самая блестящая, разумеется после корсаковской. И, говоря сравнительно, она не была оскорбительной для других, но если спросить серьезно, безотносительно, что же сделал Кукель для военного управления в Иркутске, для войск Восточной Сибири, для забайкальских и амурских казаков и для переселенцев на Амуре, судьбы которых были несколько лет сряду в его руках, то придется сказать: не много хорошего. По регулярным войскам в штабе у него были такие беспорядки, что преемник его, Черкесов, нашел в каких-нибудь шести батальонах пятьсот одиннадцать солдат безвестно отсутствовавших, о чем генерал-губернатор Синельников и доносил государю. Это были люди, которых Кукель и его штаб просчитывали, так что правительство отпускало на них одежду, амуницию и продовольствие, но где они были, что делали и даже чем в действительности питались – не знаю. За такие беспорядки, нет сомнения, в любой европейской армии начальник штаба был бы предан суду, а у нас Кукель спасся, потому что умел «влезть в душу», сначала Муравьеву, потом Корсакову, и за ними уже скрывался от всякой ответственности. Казаки забайкальские своим разорением также обязаны, после Корсакова, больше всех Кукелю: ведь он был начальником казачьего отделения в Главном управлении и хозяйственная часть войска была на его попечении. Никогда, разумеется, ему не приходило на ум от красно писаных бумаг о колонизации Амура и о приготовлениях к ней переходить к действительности и отвечать на вопрос: а посильны ли казакам возлагаемые на них натуральные повинности и издержки всякого рода? Да не приходило не потому, чтобы не могло прийти по свойству голоса, а потому, что взвешивать гласно казачьи нужды было нерасчетливо и могло повлечь потерю расположения свыше, чего Кукель никак допустить не мог… «Лови счастье, пока оно дается и „aprХs nous le dХluge“»[92 - «Apr?s nous le d?luge» (французск.) – «после нас хоть потоп».] – было всегда его девизом, как он доказал и при конце своей карьеры, когда для поддержания блестящего общественного положения сознательно делал долги, которых уплатить был не в состоянии. Правда, исподтишка он иногда посмеивался над «амурским угаром» и его последствиями; но высказать свои сомнения начальству открыто и настойчиво никогда не решался. Вот сделать, в безопасное время, volte-face[93 - Volte-face (французск.) – быстрый поворот, перемена убеждений.] и согласиться с порицателями хода амурского дела, – о чем свидетельствует Завалишин, – это было совершенно в его природе. Я и сам слышал от него в 1868 году насмешливые замечания об амурской колонизации. Впрочем, он тогда смеялся над всем: над ревизором Лутковским, приезжавшим из Петербурга и видевшим амурские селения только с парохода, то есть не видавшим их иногда совсем; над митрополитом Иннокентием, отправлявшимся из Сибири управлять московской епархией по якутским обычаям, из которых главнейший тот, что архиерейская консистория есть ablupatio poporum et diaconorum[94 - Oblupatio poporun et diaconorum (шутка) – обдирание попов и дьяконов.], над губернатором Педашенко, которого раскольники просили не присылать к ним чиновников, и т. д. Во всяком случае, надобно признаться, что Кукель был много выше разных Буссе, Будогосских, Шелашниковых и им подобных «деятелей» в Иркутске. Для начальника штаба в паскевическом смысле, то есть для ловкого, хорошо знающего бумаги писаря, он был хоть куда, и немудрено, что пленил Милютина, который канцелярскую неутомимость и почтительную гибкость нрава всегда считал главными штабными добродетелями, хотя бы отличавшиеся ими занимали очень самостоятельные и ответственные посты.
Дом Кукеля в Иркутске всегда был самым популярным, пожалуй, даже аристократическим; и это не только потому, что сам хозяин был человек приветливый и любезный, а еще и потому, что с ним жил его тесть Клейменов с женою и дочерью, сестрой madame Кукель (а теперь женою посланника Бюцова). Клейменов был горный инженер-полковник, ревизор енисейской золотоносной системы, куда и ездил каждое лето собирать золотую жатву. Так как на приисках у него бывало по 20 000 рабочих, то он, сверх жалованья, получал по крайней мере 20 000 рублей оброка или подушной подати с владельцев приисков. Таков уже был обычай, терпимый даже Муравьевым, который не хотел ссориться с горными инженерами, чтобы не наживать врагов в Министерстве финансов. Благодаря этим доходам Клейменов мог свободно следовать своим природным наклонностям хлебосола; и как в лизоблюдах и прихлебателях недостатка никогда и нигде не бывает, то в доме его и Кукеля всегда были гости. Тут собирались новости, рассказывались анекдоты, происходили толки о том о сем и шла игра в карты. Любопытно, что главными говорунами на этих беседах были мужчины-хозяева; дамы же, то есть их жены и девица, отличались крайнею молчаливостью, особенно молодая жена Кукеля, довольно красивая, полная женщина, которая была влюблена в своего мужа и рожала ему каждогодно детей. Старик В. В. Клейменов был неистощим в рассказах, которым умел придавать довольно забавную форму; да и видал он на своем веку немало, от Тифлиса до Иркутска и Петербурга. Критического разбора деятельности генерал-губернатора и вообще местной администрации в доме Клейменовых-Кукелей, конечно, не допускалось, и оттого человеку, желавшему пользоваться этим «салоном» для приобретения сколько-нибудь дельных сведений о крае и его деятелях, было в нем скучновато. Впрочем, с Клейменовым иногда можно было петь не одни хвалебные гимны начальству; но Кукель всегда только славословил или заминал речи, непристойные в доме члена Совета Главного управления. И хотя ему многое из изнанки текущих дел было хорошо известно, но он тщательно о том умалчивал, и только через десять лет после отъезда моего из Иркутска, когда Муравьев давно сошел со сцены, его бывший советник и начальник штаба довольно насмешливо излагал мне разные эпизоды из времен «муравьевщины», да и не мне одному, а даже Завалишину.
Кукель, как и Буссе, был военным любимцем генерал-губернатора; в гражданском ведомстве наравне с ними стоял Беклемишев. Вся Россия узнала имя этого человека по его печальной истории с Неклюдовым – и, благодаря «Колоколу», узнала с негодованием. Может быть, корреспонденты Герцена были и правы во многом: дело было по отъезде моем, и я лично его не знаю. Но Беклемишева и Неклюдова я знал лично и, признаюсь, – никакого сочувствия к последнему иметь не могу. Это был хлыщ из самых ничтожных, да еще важничавший своим родством и связями. Что мудреного, что Беклемишев сказал ему какую-нибудь колкость, мало-помалу приведшую ко вражде, драке и потом дуэли. Сам он был человек дела, ненавидевший паразитов, ничем дотоле не замаранный. Правда, над ним смеялись, что он при заселении Читинского тракта брал с верхнеудинских староверов взятки не деньгами, а красавицами, семьи которых выселял на большую дорогу, чтобы почаще их навещать; но я не раз говорил о нем с самими староверами, как выселенными, так и оставшимися на местах, и постоянно слышал от них, что время исправничества в Верхнеудинске Беклемишева было для них золотым веком. «Душевный был человек Федор Андреич: никаких поборов сам не брал и другим не позволял брать. Попросишь о чем – коли можно, сейчас сделает. Ни попы, ни заседатели, ни казаки, ни горные чиновники, ни купцы при нем обижать нас не смели». В некоторых избах крестьян я видел его портрет через несколько лет после оставления им Верхнеудинска: это кое-что значит. Конечно, он был скор, слишком энергичен, но безусловно честен и очень распорядителен. Над Кукелем он имел преимущество человеческого сердца, патриотизма и гражданского мужества: говорить правду даже и тогда, когда это могло не нравиться… Таким по крайней мере он представлялся мне. Н. Н. Муравьев, очевидно, готовил его в губернаторы и до члена Совета Главного управления уже довел; но неклюдовская история сильно повредила ему и заставила выехать из Сибири.
Буссе, Кукель и Беклемишев были люди, выдвинутые самим Муравьевым вследствие многолетнего личного знакомства с их деятельностью; но в Иркутске был еще разряд людей, занимавших видное положение в силу петербургских покровительств, начиная с prot?g? императрицы Александры Федоровны, немецкого дезертира юнкера Коха. Это уже неизбежное зло во всех русских губернаторских и особенно генерал-губернаторских резиденциях. Я упомяну только об одном из этих господ, Извольском, потому что разные Анненковы, Арсеньевы, Бюцовы, Гвоздевы, Гурьевы и пр. не стоят того, чтобы их вспоминать, по ничтожности круга их деятельности, хотя между ними могли быть люди хорошие. Извольский был посредственным офицером Генерального штаба, вышедшим в отставку из подполковников с целью добиться, при помощи дядюшки Сухозанета, военного министра, видного места в гражданской службе. Муравьев, для которого содействие Сухозанета было очень важно, и дал ему таковое, сначала в виде члена Совета Главного управления, а потом иркутского вице-губернатора, причем он часто управлял губернией, ибо Венцель, при отлучках Муравьева, занимал уже его место. Жена Извольского, которая собственно была родственница петербургского «Сатурна, пожирающего своих детей», старалась играть в иркутском обществе роль de la plus grande dame[95 - De le plus grande dame (французск.) – самая важная дама.], что, за отсутствием генерал-губернаторши, ей и удавалось. Муравьев делал ей подарки в день именин, и она, пользуясь таким вниманием, позволяла себе отправлять с генерал-губернаторскими курьерами к тетушке в Петербург меха, бочонки с кедровым маслом или байкальскими омулями и т. п. С одним таким курьером, Оларовским, я помню, вышла презабавная история: сильно нагруженная кибитка его провалилась на плохо замерзнувшей реке Ие, и горностаи мадам Сухозанет были подмочены. Чуть ли даже он не заменил их купленными на собственные деньги. Поблажки жене, разумеется, отзывались и на муже, которому проходили даром довольно резкие промахи и которого Муравьев таки дотянул до губернаторства, правда, вне Сибири. Так, я помню следующий случай. Извольскому понадобился овес для лошадей, по цене более дешевой, чем базарная. Он сказал о том иркутскому исправнику Гурьеву, а тот «распорядился» через одного волостного голову! История немедленно огласилась, потому что такие вещи в муравьевские времена считались в Иркутске предосудительными; но Извольскому все сошло.
Спускаться далее в мир иркутской бюрократии, современной моему пребыванию в Восточной Сибири, я решительно не в состоянии; да и не стоит. Это была обычная губернская бюрократия николаевского заготовления. Был, например, полицмейстер, разъезжавший по городу в санках с пристяжной на отлете, у него была смазливая жена к услугам… впрочем, на этот раз не начальства, как бывало потом, при Корсакове и Фридрихсе, а одного из молодых носителей аксельбантов. Был жандармский офицер Фохт, дубина вершков десяти росту, с широкими пастью и дланью; как человек, который обязан наблюдать за благим поведением других и для которого нет ни за что ответственности, он ругался площадными словами в иркутском «благородном» собрании… правда, на маскарадах, куда имели доступ горничные местных генеральш. Был инженерный капитан-щеголь Рейн, столь исполненный вечно проповеданных им правил благопристойности, что в том же собрании даже дрался с прислугою. Был советник в Главном управлении, хваставшийся честною бедностью, про которого, однако, общий голос настойчиво уверял, что он взял взятку в 5 000 рублей. Опасаясь последствий такой молвы, честный советник ходил в мундире к Венцелю (за отсутствием Муравьева) с просьбою выслать из Иркутска Петрашевского, который будто бы распространяет слух, прибавляя, что «если так поступить с одним горлодером, то другие замолкнут». Когда же Венцель объявил, что сделать этого не может, а что против Петрашевского, хоть и ссыльного, нужно действовать судом, то обиженный сановник объявил, к немалому удовольствию публики: «Стану я ходить по судам срамиться!» – после чего никто уже не сомневался, что взятка была получена…
Впрочем, да мимо идет чаша, наполненная соком иркутской общественной жизни: ее ведь можно пить в каждом русском губернском городе. Любопытнее вспомнить о том, чем Иркутск в мое время отличался от огромного большинства провинциальных центров, то есть о широком умственном движении и его представителях. Делая сравнение несколько гиперболическое, я могу сказать, что для Восточной Сибири «век Муравьева» был тем же, чем век Екатерины II для всей России и век Людвика XIV для Франции. Не было только поэтов, сочинителей од, хотя, например, 16 мая 1858 года – день заключения Айгунского договора, в память которого в Иркутске были сооружены триумфальные ворота, мог бы дать повод какому-нибудь жрецу Аполлона и муз написать не один десяток строф рифмованной лести. Умственное движение в Иркутске 1850–1860 годов в самом деле было значительно, и Муравьеву в нем принадлежит роль если не возбудителя, то покровителя… в смысле Тамерлана, говорят иные, скорее в смысле Екатерины, скажу я. Генерал-губернатор, начавший свое управление льготами декабристам и даже визитами к ним, оставался и через десять лет «человеком» по отношению к петрашевцам, то есть к людям, заплатившим каторгою за то, что служили честным идеям. В бытность мою в Иркутске все наличные петрашевцы (декабристов уже не было: они в 1856 году получили всепрощение по ходатайству Муравьева же) – Петрашевский, Спешнев, Львов – были ласкаемы генерал-губернатором, а за ним и прочею местною знатью. Первый был даже одно время чем-то вроде хозяйки дома Муравьева, за отсутствием уехавшей в Париж жены. Он пользовался этим положением, чтобы говорить своему покровителю вещи, которых не смели сказать другие: например, укорял его за стремление удешевить полицейскими мерами хлеб на иркутском базаре, за ложную экономическую политику в Забайкалье, при снаряжении амурских сплавов и т. п. И Муравьев слушал, оспаривал, как умел, может быть, сердился; но никогда не думал за несходство мнений ссылать Петрашевского в Минусинск, как сделал потом Корсаков Львову и Спешневу, людям сравнительно молодым, надеявшимся на реставрацию, он отворил дверь в храмину бюрократии, после чего, мало-помалу, первый из них достиг возвращения чина отставного гвардии штабс-капитана, а последний проник и в высшие, то есть самые бездушные, сферы канцелярии в Петербурге. Спешнев был сделан Муравьевым даже редактором основанной в 1858 году газеты «Амур», хотя это была газета казенная и, следовательно, не должна была издаваться при содействии бывших каторжников. И Бакунин[96 - Бакунин М. А. (1814–1876) – идеолог анархизма, в 1857 году был выслан на вечное поселение в Сибирь, откуда бежал в 1861 году. Племянник генерал-губернатора Муравьева-Амурского.], которого император Александр II обещал во все время своего царствования не возвращать из Сибири, нашел себе покровителя в Муравьеве, который доставил ему нечто вроде нештатного, но постоянного и прибыльного места адвоката золотопромышленников при Главном управлении Восточной Сибири, где решались дела об отводе приисков. (Впрочем, это, как говорили, сделано было по родству; и я, никогда не знавший Бакунина лично, не ручаюсь, верно ли переданное здесь мною известие.)
Упомянув о Петрашевском, не могу не вспомнить моих личных к нему отношений, остававшихся наилучшими до самого моего отъезда из Сибири, хотя Михаила Васильевича за его резкую правдивость и иногда злые насмешки многие не жаловали и даже боялись. Когда в ноябре 1857 года я уезжал в Петербург курьером, он передал мне письмо к матери, которое боялся доверить почте, и просил о сообщении ей некоторых подробностей на словах. Я свято исполнил поручение; старушка, богатая домовладелица, помнится, на Торговой улице, при мне спрятала полученное письмо под косынку на груди, расспросила меня о житье-бытье сына, но ответа последнему ни тут, ни после мне не дала. По возвращении моем в Иркутск Петрашевский с грустью узнал об этом; но что было коренною причиною этой грусти, – осталось мне неизвестным. Мои личные отношения к Михаилу Васильевичу оставались прежними, то есть мы часто беседовали о предметах научного и общественного интереса то у меня, то у него, то в Сибирском отделе Географического общества, всего же чаще у Ротчевой. Эта почтенная дама была тоже одною из замечательностей Иркутска. Урожденная княжна Гагарина, она получила прекрасное образование, живала в большом парижском свете, но вышла замуж (вероятно, по любви) за небогатого человека Ротчева. С ним она жила в Русской Америке, именно в колонии Росс на берегу Калифорнии, около самой той местности, где года через два после продажи колонии американцам открыты были богатые золотые прииски; потом поселилась в сибирской глуши и управляла каким-то женским воспитательным заведением, тогда как муж, довольно известный публицист, оставался в Петербурге и служил, кажется, в канцелярии Военного министерства и в управлении Российско-Американской компании. Ротчева имела сына и двух дочерей, из которых одна, редкая красавица, вышла замуж за полковника Заборинского, предместника Буссе, другая оставалась при матери, а сын состоял адъютантом или ординарцем при Корсакове. Сколько раз я просиживал далеко за полночь у почтенной старушки, легко поддерживавшей всякий разговор, знакомой со всеми отраслями человеческих знаний, умевшей сознательно не преклоняться ни перед Гумбольдтом, ни перед Герценом, ни даже перед своим любимцем Вольтером и метко указывавшей достоинства их и недостатки. С ней в последний раз в жизни я вел спор о предмете высшей метафизики, творце и правителе мира, и она сдавалась нелегко, уступая лишь шаг за шагом, по мере того как я развивал ей, как умел, антиномии, неизбежные в вопросах естествознания и морали при допущении гипотезы всемогущего, всеведущего, вездесущего, правосудного и всеблагого бога.
– Опасный вы человек, – сказала она мне после этой беседы, пожимая на прощанье руку. – Вот мне за пятьдесят лет, прожила я и передумала много; а ведь вы затронули такие вопросы, которые мне никогда не приходили в голову, даже при чтении писателей-скептиков. И, право, теперь хоть сначала передумывай все.
Я никогда в жизни не слышал ничего более лестного для себя и спешил ее благодарить так же искренне, как она дала мне аттестат, которого я, впрочем, не добивался….Ротчеву, я думаю, поминают добрым словом и многие из живших в Иркутске; но, конечно, кроме аристократок-чиновниц, которые не любили ее за превосходство ума и образования и за гордую независимость, с которою она, женщина небогатая, держалась относительно их.
Вот у Ротчевой-то, как я сказал, мне приходилось чаще всего встречаться с Петрашевским и толковать о всевозможных предметах. Узнав таким образом довольно близко этого человека, я могу с совершенной искренностью сказать, что Россия немало потеряла в его, замученном ссылкою, гонениями и лишениями, лице. Ум многосторонний, резко-аналитический и в то же время глубоко сочувствовавший всему гуманному, без фальши, без экивоков, не склоняясь ни перед чьим авторитетом, – он мог бы многое сделать, и не на словах только, а на деле, если бы внешность не задавила его. Что мне в нем больше всего нравилось, – это непреклонность убеждений и воли по отношению к самому себе. Он не польстился на возможность помощью муравьевской протекции и высочайших помилований реставрировать себя в чинах и званиях, а подал в сенат просьбу о пересмотре всего его дела, этой бесчеловечной и беззаконной проделки Николая и его клевретов, испуганных 1848 годом. Разумеется, он получил отказ; мало того, Корсаков сослал его снова в одно из самых глухих мест Сибири; но не лучше ли умереть в глуши, почти без куска хлеба, но с непреклонно-гордым челом, чем с гибкой спиною из почетного сословия русских политических ссыльных перейти в постыдные ряды русской бюрократии и даже, пожалуй, дослужиться до пенсии от тех самых деспотов, с которыми боролся и которых ни любить, ни уважать никогда не мог? В этом смысле разница между Петрашевским и многими его товарищами по истории 1849 года огромна… Львов, Спешнев, Достоевский… что выиграли они морально от своей реставрации?
Я не был ни другом, ни даже приятелем Михаила Васильевича, а только добрым знакомым, который, когда мог, служил ему чем-нибудь, например книгами и журналами, и который иногда пользовался его услугами, например, по переводу с немецкого кое-каких географических сочинений; но нечто хорошее связывало нас настолько, что в день прощания я увидел у Петрашевского на глазах сверкавшие меж ресниц слезы. Мне было приятно оставить ему на память несколько книг, которые увозить с собою из Иркутска я не видел нужды. И когда я приехал в Петербург, у меня из длинной вереницы моих восточносибирских знакомых ярче других рисовались он да еще madame Ротчева.
Эту последнюю ее иркутские недоброжелательницы иногда называли «синим чулком» и «академиком в чепце»; но то была неудачная ложь. С тактом светски образованной женщины Ротчева всего менее походила на «синий чулок», на «семинариста в женской шали» и даже на «академика в чепце». А вот кто в Иркутске был академиком, хоть не в чепце, а в панталонах, с Анной на шее, – это Илларион Сергеевич Сельский. Он тоже принадлежал к сибирской интеллигенции и даже стоял официально в центре местного ученого кружка, то есть Сибирского отдела Географического общества. Несмотря на свой пожилой возраст и долгое пребывание в чиновничьей среде, он любил науку, и хотя был отсталым по многим ее отраслям, но все-таки сохранился открытым для всяких научных вопросов, особенно географических. Восточную Сибирь он знал, я думаю, лучше, чем кто-нибудь, как по личному осмотру значительной части ее, так и по книгам и документам, которых в отделе было немало и часть которых он собрал сам в разных архивах и от разных местных писателей. При нем отдел Русского Географического общества жил полной жизнью, издавал исправно книжки «Записок» и служил сборным пунктом всех, кто в Иркутске интересовался знанием. Сельский был, во-первых, отец-архивариус и, во-вторых, непременный секретарь этой походной академии, которая так часто менялась в своем составе. Как член Совета Главного управления, он едва ли имел серьезное влияние на ход дел в Сибири, потому что боялся Муравьева; но все же лишнею спицею в колеснице не был. Он возбуждал насмешки своим скопидомством; но никто не смел бы сказать, что им что-либо приобретено нечестным путем… кроме разве рукописей, про которые Н. Н. Муравьев как-то говорил мне на Зее, что «если распорядиться немного деспотически с Илларионом Сергеевичем, то у него можно открыть немало вещей из якутского и других архивов…». Может быть, даже почти наверное, так; но хищничества Сельского не имели характера личного присвоения, а служили на пользу науки, спасая от забвения и гибели многие интересные документы. Я бы мог лично претендовать на «скопидома» за продажу им Бенардаки, за 225 рублей, моего отчета об Уссури без моего согласия; но он сам заплатил мне за рукопись 150 рублей из сумм отдела. Если затем он соспекулировал на 75 рублей, то я готов думать, что не в собственную пользу, а для казны отдела. Притом он уже не возражал, когда я, узнав о его «обороте», передал статью секретарю самого Географического общества Ламанскому, в Петербурге, для «Вестника» общества, гораздо более распространенного в ученом мире, чем «Записки» Восточно-Сибирского отдела.
Из членов или постоянных посетителей этого отдела – настоящей иркутской академии муравьевского времени, можно бы вспомнить Шварца, Рашкова, Радде, Крыжина и Усольцева, то есть членов сибирской географической экспедиции 1855–1859 годов; доктора Кашина из Забайкалья; священника Аргентова из Нижне-Колымска; местных иркутских чиновников Маака, Гаупта и Пермыкина; горных инженеров Аносова, Баснина, Клейменова, Фитингофа; моих штабных сослуживцев – Будогосского, Турбина и Сгибнева, из которых последний был преемником Сельского в отделе; инженера Романова, столь прославившегося статьями об Амуре; купца Соловьева, который дал 15 000 рублей на исследование Амура натуралистом Мааком и на великолепное издание его отчета; купца же Пежемского, ведшего летопись Иркутска, и пр. Но что можно было сказать об их научной деятельности, – они сказали сами, и мне прибавлять, кажется, нечего. Довольно того, что их в муравьевское время было немало и что стоило Муравьеву уйти из Сибири, чтобы и они мало-помалу рассеялись по обширному пространству России: одни, – чтобы трудиться по-прежнему в области знания, другие, – чтобы заглохнуть в бюрократическом омуте. Самый блистательный представитель науки в послемуравьевское время – Н. М. Пржевальский[97 - Пржевальский Н. М. (1839–1889) – выдающийся русский путешественник, в 1867–1869 годах совершил свою первую экспедицию в Уссурийский край.] недолго оставался в Восточной Сибири, да и покамест был там, – сторонился или был отстраняем от местных влиятельных сфер. За довольно ярким днем, осветившим Сибирь и Амур в 1850–1860 годах, скоро наступила почти непроглядная ночь, которой, по счастью, я уже не был личным свидетелем. В этой ночи светилами явились лишь некоторые ссыльные поляки – Годлевский, Дыбовский, Чекановский да будущий эмигрант князь П. А. Кропоткин.
notes
Сноски
1
Иркутск в те годы представлял административный центр Восточной Сибири и Дальнего Востока.
2
Муравьев Н. Н., позднее Муравьев-Амурский (1809–1881), – генерал-губернатор Восточной Сибири, один из главных инициаторов воссоединения Приамурья с Россией и заселения края русскими переселенцами. «Человек с государственным смыслом», – по отзыву Герцена, – Муравьев-Амурский «безо всякого сравнения, умнее, образованнее и честнее кабинета (министров. – А. С.) совокупно». Отмечая эти качества, Герцен одновременно разоблачал деспотические замашки восточносибирского генерал-губернатора и дал ему меткую характеристику: «демократ и татарин, либерал и деспот». Демократические высказывания, связи Муравьева-Амурского с декабристами, отбывавшими ссылку в Восточной Сибири, не прошли ему даром. По настоянию царской охранки – Третьего отделения – он был в 1861 году снят с генерал-губернаторского поста и закончил жизнь в добровольной эмиграции.
3
Путятин Е. В. (1803–1883) – адмирал, дипломат. В качестве представителя России в 1855 году заключил трактат с Японией. В 1857 году направлялся для дипломатических переговоров с китайским правительством. После неудачных попыток проникнуть в Пекин сухопутным путем отправился морем через Шанхай. С 1861 года был назначен министром народного просвещения и пытался репрессиями подавить студенческое движение, но вскоре под давлением демонстраций учащейся молодежи был смещен со своего поста.
4
Д'Анвиль Ж. Б. (1697–1789) и Клапрот – западноевропейские географы и картографы, использовавшие китайские источники для составления карт Маньчжурии и Китая.
5
Иоакинф (Н. Я. Бичурин) (1777–1853) знаменитый русский китаевед, в 1805–1822 годах был начальником русской духовной миссии в Пекине. Будучи прекрасным знатоком китайского языка, литературы, истории, социального строя, оставил после себя многочисленные сочинения, в которых впервые в мировой науке дал правильное представление о великом китайском народе. Его работы наносили удар по западноевропейскому китаеведению, третировавшему китайский народ как «неполноценный». За атеистические взгляды подвергался гонениям со стороны церковных властей.
6
Кяхта, тогда торговая слободка, находившаяся в трех километрах от окружного центра – города Троицкосавска, – единственный пункт торговли русских с Китаем до 1858 года. Против Кяхты располагался китайский пограничный торговый пункт Маймачен.
7
А нужно заметить, что мы, с своей стороны, делали все, чтобы показать китайцам особую исключительную важность посла. Для этой цели, например, в Троицкосавске, по приказанию генерал-губернатора, музыка местного линейного батальона ежедневно, в известные часы, играла перед окнами «высокой особы из Петербурга», что, конечно, приводило в истерическое раздражение г. посла, но зато внушало маймаченским китайцам понятие о нем как о самом высоком сановнике, достойном богдыхана.
8
Урга – прежнее название города Улан-Батора, ныне столицы Монгольской Народной Республики.
9
Нессельроде К В. (1780–1862) – царский министр иностранных дел с 1816 по 1856 год, поддерживал европейскую реакцию, ярый противник воссоединения Приамурья с Россией.
10
Невельской Г. И. (1813–1876) – адмирал, знаменитый русский географ, исследователь Дальнего Востока, открывший устье Амура и установивший островное положение Сахалина. Один из главных инициаторов решения амурского вопроса.
11
Одному из советников Главного управления Муравьев, на первых же порах, бросил в лицо его доклад, направленный по корыстным расчетам в неправую сторону, и приказал «убираться вон».
12
Бенкендорф А. X. (1783–1844) – один из реакционнейших министров Николая I, шеф жандармов, организатор и начальник Третьего отделения.
13
Так говорил мне сам Муравьев; но не смешал ли он тут Бенкендорфа с Перовским или Орловым, – не могу сказать. Кажется, что Бенкендорфа в 1848–1849 годах уже не было у дел. Впрочем, сущность дела от этого не изменяется и мнение Николая I о декабристах остается в своей силе. Не ему ли они обязаны тем, что к ним в Читу был назначен комендантом Лепарский, которого сами они и члены их семей хвалят? В таком случае это любопытный психологический факт: с одной стороны, виселицы и разные свирепости против побежденных врагов, с другой – уважение к личностям их, поблажки*. Впрочем, вся человеческая жизнь обыкновенно слагается из подобных противоречий… Не нужно еще забывать и того, что Муравьев был почитателем Николая именно как нравственного лица, у которого будто бы за жесткими формами скрывалось доброе сердце.
* Николай I (1796–1855) – российский император и отъявленный крепостник, душитель революционного движения, отличался исключительным лицемерием. Вот его резолюция по поводу одного солдатского дела: «В России, слава богу, нет смертной казни – дать ему 12 тысяч палок».
В данном случае М. И. Венюков принял лицемерие за подлинную монету. Отношение же автора к Николаю I было совершенно ясное, как к душителю свободной мысли, как к «венчанному вахмистру» («Из воспоминаний», книга первая, стр. 74).
14
Впрочем, на одной станции, под Читою, содержатель ее, еврей Шмыйлович, угостил нас шампанским.
15
Не все члены последнего знали, однако же, о свойствах обеда; например, барон Остен-Сакен, тогда юноша лет 20-ти, ничего не слыхал о перце до 1878 года, как удостоверил меня в том письменно. Зато были господа, говорившие еще в 1857 году на Амуре, что «генерал-губернатор кормит посланника и его свиту дрянью, которую бы следовало выбросить в воду, как, например, заплесневевшими страсбургскими паштетами и гнилыми консервами». И музыку, которая играла в Кяхте под окнами посла, для отдания ему почета перед глазами китайцев, считали сибирским маневром, чтобы надосадить графу Путятину и выжить его из Сибири.
16
Errare humanum est (латинск.) – человеку свойственно заблуждаться.
17
Дом Кукеля в Иркутске всегда был самым популярным, пожалуй, даже аристократическим; и это не только потому, что сам хозяин был человек приветливый и любезный, а еще и потому, что с ним жил его тесть Клейменов с женою и дочерью, сестрой madame Кукель (а теперь женою посланника Бюцова). Клейменов был горный инженер-полковник, ревизор енисейской золотоносной системы, куда и ездил каждое лето собирать золотую жатву. Так как на приисках у него бывало по 20 000 рабочих, то он, сверх жалованья, получал по крайней мере 20 000 рублей оброка или подушной подати с владельцев приисков. Таков уже был обычай, терпимый даже Муравьевым, который не хотел ссориться с горными инженерами, чтобы не наживать врагов в Министерстве финансов. Благодаря этим доходам Клейменов мог свободно следовать своим природным наклонностям хлебосола; и как в лизоблюдах и прихлебателях недостатка никогда и нигде не бывает, то в доме его и Кукеля всегда были гости. Тут собирались новости, рассказывались анекдоты, происходили толки о том о сем и шла игра в карты. Любопытно, что главными говорунами на этих беседах были мужчины-хозяева; дамы же, то есть их жены и девица, отличались крайнею молчаливостью, особенно молодая жена Кукеля, довольно красивая, полная женщина, которая была влюблена в своего мужа и рожала ему каждогодно детей. Старик В. В. Клейменов был неистощим в рассказах, которым умел придавать довольно забавную форму; да и видал он на своем веку немало, от Тифлиса до Иркутска и Петербурга. Критического разбора деятельности генерал-губернатора и вообще местной администрации в доме Клейменовых-Кукелей, конечно, не допускалось, и оттого человеку, желавшему пользоваться этим «салоном» для приобретения сколько-нибудь дельных сведений о крае и его деятелях, было в нем скучновато. Впрочем, с Клейменовым иногда можно было петь не одни хвалебные гимны начальству; но Кукель всегда только славословил или заминал речи, непристойные в доме члена Совета Главного управления. И хотя ему многое из изнанки текущих дел было хорошо известно, но он тщательно о том умалчивал, и только через десять лет после отъезда моего из Иркутска, когда Муравьев давно сошел со сцены, его бывший советник и начальник штаба довольно насмешливо излагал мне разные эпизоды из времен «муравьевщины», да и не мне одному, а даже Завалишину.
Кукель, как и Буссе, был военным любимцем генерал-губернатора; в гражданском ведомстве наравне с ними стоял Беклемишев. Вся Россия узнала имя этого человека по его печальной истории с Неклюдовым – и, благодаря «Колоколу», узнала с негодованием. Может быть, корреспонденты Герцена были и правы во многом: дело было по отъезде моем, и я лично его не знаю. Но Беклемишева и Неклюдова я знал лично и, признаюсь, – никакого сочувствия к последнему иметь не могу. Это был хлыщ из самых ничтожных, да еще важничавший своим родством и связями. Что мудреного, что Беклемишев сказал ему какую-нибудь колкость, мало-помалу приведшую ко вражде, драке и потом дуэли. Сам он был человек дела, ненавидевший паразитов, ничем дотоле не замаранный. Правда, над ним смеялись, что он при заселении Читинского тракта брал с верхнеудинских староверов взятки не деньгами, а красавицами, семьи которых выселял на большую дорогу, чтобы почаще их навещать; но я не раз говорил о нем с самими староверами, как выселенными, так и оставшимися на местах, и постоянно слышал от них, что время исправничества в Верхнеудинске Беклемишева было для них золотым веком. «Душевный был человек Федор Андреич: никаких поборов сам не брал и другим не позволял брать. Попросишь о чем – коли можно, сейчас сделает. Ни попы, ни заседатели, ни казаки, ни горные чиновники, ни купцы при нем обижать нас не смели». В некоторых избах крестьян я видел его портрет через несколько лет после оставления им Верхнеудинска: это кое-что значит. Конечно, он был скор, слишком энергичен, но безусловно честен и очень распорядителен. Над Кукелем он имел преимущество человеческого сердца, патриотизма и гражданского мужества: говорить правду даже и тогда, когда это могло не нравиться… Таким по крайней мере он представлялся мне. Н. Н. Муравьев, очевидно, готовил его в губернаторы и до члена Совета Главного управления уже довел; но неклюдовская история сильно повредила ему и заставила выехать из Сибири.
Буссе, Кукель и Беклемишев были люди, выдвинутые самим Муравьевым вследствие многолетнего личного знакомства с их деятельностью; но в Иркутске был еще разряд людей, занимавших видное положение в силу петербургских покровительств, начиная с prot?g? императрицы Александры Федоровны, немецкого дезертира юнкера Коха. Это уже неизбежное зло во всех русских губернаторских и особенно генерал-губернаторских резиденциях. Я упомяну только об одном из этих господ, Извольском, потому что разные Анненковы, Арсеньевы, Бюцовы, Гвоздевы, Гурьевы и пр. не стоят того, чтобы их вспоминать, по ничтожности круга их деятельности, хотя между ними могли быть люди хорошие. Извольский был посредственным офицером Генерального штаба, вышедшим в отставку из подполковников с целью добиться, при помощи дядюшки Сухозанета, военного министра, видного места в гражданской службе. Муравьев, для которого содействие Сухозанета было очень важно, и дал ему таковое, сначала в виде члена Совета Главного управления, а потом иркутского вице-губернатора, причем он часто управлял губернией, ибо Венцель, при отлучках Муравьева, занимал уже его место. Жена Извольского, которая собственно была родственница петербургского «Сатурна, пожирающего своих детей», старалась играть в иркутском обществе роль de la plus grande dame[95 - De le plus grande dame (французск.) – самая важная дама.], что, за отсутствием генерал-губернаторши, ей и удавалось. Муравьев делал ей подарки в день именин, и она, пользуясь таким вниманием, позволяла себе отправлять с генерал-губернаторскими курьерами к тетушке в Петербург меха, бочонки с кедровым маслом или байкальскими омулями и т. п. С одним таким курьером, Оларовским, я помню, вышла презабавная история: сильно нагруженная кибитка его провалилась на плохо замерзнувшей реке Ие, и горностаи мадам Сухозанет были подмочены. Чуть ли даже он не заменил их купленными на собственные деньги. Поблажки жене, разумеется, отзывались и на муже, которому проходили даром довольно резкие промахи и которого Муравьев таки дотянул до губернаторства, правда, вне Сибири. Так, я помню следующий случай. Извольскому понадобился овес для лошадей, по цене более дешевой, чем базарная. Он сказал о том иркутскому исправнику Гурьеву, а тот «распорядился» через одного волостного голову! История немедленно огласилась, потому что такие вещи в муравьевские времена считались в Иркутске предосудительными; но Извольскому все сошло.
Спускаться далее в мир иркутской бюрократии, современной моему пребыванию в Восточной Сибири, я решительно не в состоянии; да и не стоит. Это была обычная губернская бюрократия николаевского заготовления. Был, например, полицмейстер, разъезжавший по городу в санках с пристяжной на отлете, у него была смазливая жена к услугам… впрочем, на этот раз не начальства, как бывало потом, при Корсакове и Фридрихсе, а одного из молодых носителей аксельбантов. Был жандармский офицер Фохт, дубина вершков десяти росту, с широкими пастью и дланью; как человек, который обязан наблюдать за благим поведением других и для которого нет ни за что ответственности, он ругался площадными словами в иркутском «благородном» собрании… правда, на маскарадах, куда имели доступ горничные местных генеральш. Был инженерный капитан-щеголь Рейн, столь исполненный вечно проповеданных им правил благопристойности, что в том же собрании даже дрался с прислугою. Был советник в Главном управлении, хваставшийся честною бедностью, про которого, однако, общий голос настойчиво уверял, что он взял взятку в 5 000 рублей. Опасаясь последствий такой молвы, честный советник ходил в мундире к Венцелю (за отсутствием Муравьева) с просьбою выслать из Иркутска Петрашевского, который будто бы распространяет слух, прибавляя, что «если так поступить с одним горлодером, то другие замолкнут». Когда же Венцель объявил, что сделать этого не может, а что против Петрашевского, хоть и ссыльного, нужно действовать судом, то обиженный сановник объявил, к немалому удовольствию публики: «Стану я ходить по судам срамиться!» – после чего никто уже не сомневался, что взятка была получена…
Впрочем, да мимо идет чаша, наполненная соком иркутской общественной жизни: ее ведь можно пить в каждом русском губернском городе. Любопытнее вспомнить о том, чем Иркутск в мое время отличался от огромного большинства провинциальных центров, то есть о широком умственном движении и его представителях. Делая сравнение несколько гиперболическое, я могу сказать, что для Восточной Сибири «век Муравьева» был тем же, чем век Екатерины II для всей России и век Людвика XIV для Франции. Не было только поэтов, сочинителей од, хотя, например, 16 мая 1858 года – день заключения Айгунского договора, в память которого в Иркутске были сооружены триумфальные ворота, мог бы дать повод какому-нибудь жрецу Аполлона и муз написать не один десяток строф рифмованной лести. Умственное движение в Иркутске 1850–1860 годов в самом деле было значительно, и Муравьеву в нем принадлежит роль если не возбудителя, то покровителя… в смысле Тамерлана, говорят иные, скорее в смысле Екатерины, скажу я. Генерал-губернатор, начавший свое управление льготами декабристам и даже визитами к ним, оставался и через десять лет «человеком» по отношению к петрашевцам, то есть к людям, заплатившим каторгою за то, что служили честным идеям. В бытность мою в Иркутске все наличные петрашевцы (декабристов уже не было: они в 1856 году получили всепрощение по ходатайству Муравьева же) – Петрашевский, Спешнев, Львов – были ласкаемы генерал-губернатором, а за ним и прочею местною знатью. Первый был даже одно время чем-то вроде хозяйки дома Муравьева, за отсутствием уехавшей в Париж жены. Он пользовался этим положением, чтобы говорить своему покровителю вещи, которых не смели сказать другие: например, укорял его за стремление удешевить полицейскими мерами хлеб на иркутском базаре, за ложную экономическую политику в Забайкалье, при снаряжении амурских сплавов и т. п. И Муравьев слушал, оспаривал, как умел, может быть, сердился; но никогда не думал за несходство мнений ссылать Петрашевского в Минусинск, как сделал потом Корсаков Львову и Спешневу, людям сравнительно молодым, надеявшимся на реставрацию, он отворил дверь в храмину бюрократии, после чего, мало-помалу, первый из них достиг возвращения чина отставного гвардии штабс-капитана, а последний проник и в высшие, то есть самые бездушные, сферы канцелярии в Петербурге. Спешнев был сделан Муравьевым даже редактором основанной в 1858 году газеты «Амур», хотя это была газета казенная и, следовательно, не должна была издаваться при содействии бывших каторжников. И Бакунин[96 - Бакунин М. А. (1814–1876) – идеолог анархизма, в 1857 году был выслан на вечное поселение в Сибирь, откуда бежал в 1861 году. Племянник генерал-губернатора Муравьева-Амурского.], которого император Александр II обещал во все время своего царствования не возвращать из Сибири, нашел себе покровителя в Муравьеве, который доставил ему нечто вроде нештатного, но постоянного и прибыльного места адвоката золотопромышленников при Главном управлении Восточной Сибири, где решались дела об отводе приисков. (Впрочем, это, как говорили, сделано было по родству; и я, никогда не знавший Бакунина лично, не ручаюсь, верно ли переданное здесь мною известие.)
Упомянув о Петрашевском, не могу не вспомнить моих личных к нему отношений, остававшихся наилучшими до самого моего отъезда из Сибири, хотя Михаила Васильевича за его резкую правдивость и иногда злые насмешки многие не жаловали и даже боялись. Когда в ноябре 1857 года я уезжал в Петербург курьером, он передал мне письмо к матери, которое боялся доверить почте, и просил о сообщении ей некоторых подробностей на словах. Я свято исполнил поручение; старушка, богатая домовладелица, помнится, на Торговой улице, при мне спрятала полученное письмо под косынку на груди, расспросила меня о житье-бытье сына, но ответа последнему ни тут, ни после мне не дала. По возвращении моем в Иркутск Петрашевский с грустью узнал об этом; но что было коренною причиною этой грусти, – осталось мне неизвестным. Мои личные отношения к Михаилу Васильевичу оставались прежними, то есть мы часто беседовали о предметах научного и общественного интереса то у меня, то у него, то в Сибирском отделе Географического общества, всего же чаще у Ротчевой. Эта почтенная дама была тоже одною из замечательностей Иркутска. Урожденная княжна Гагарина, она получила прекрасное образование, живала в большом парижском свете, но вышла замуж (вероятно, по любви) за небогатого человека Ротчева. С ним она жила в Русской Америке, именно в колонии Росс на берегу Калифорнии, около самой той местности, где года через два после продажи колонии американцам открыты были богатые золотые прииски; потом поселилась в сибирской глуши и управляла каким-то женским воспитательным заведением, тогда как муж, довольно известный публицист, оставался в Петербурге и служил, кажется, в канцелярии Военного министерства и в управлении Российско-Американской компании. Ротчева имела сына и двух дочерей, из которых одна, редкая красавица, вышла замуж за полковника Заборинского, предместника Буссе, другая оставалась при матери, а сын состоял адъютантом или ординарцем при Корсакове. Сколько раз я просиживал далеко за полночь у почтенной старушки, легко поддерживавшей всякий разговор, знакомой со всеми отраслями человеческих знаний, умевшей сознательно не преклоняться ни перед Гумбольдтом, ни перед Герценом, ни даже перед своим любимцем Вольтером и метко указывавшей достоинства их и недостатки. С ней в последний раз в жизни я вел спор о предмете высшей метафизики, творце и правителе мира, и она сдавалась нелегко, уступая лишь шаг за шагом, по мере того как я развивал ей, как умел, антиномии, неизбежные в вопросах естествознания и морали при допущении гипотезы всемогущего, всеведущего, вездесущего, правосудного и всеблагого бога.
– Опасный вы человек, – сказала она мне после этой беседы, пожимая на прощанье руку. – Вот мне за пятьдесят лет, прожила я и передумала много; а ведь вы затронули такие вопросы, которые мне никогда не приходили в голову, даже при чтении писателей-скептиков. И, право, теперь хоть сначала передумывай все.
Я никогда в жизни не слышал ничего более лестного для себя и спешил ее благодарить так же искренне, как она дала мне аттестат, которого я, впрочем, не добивался….Ротчеву, я думаю, поминают добрым словом и многие из живших в Иркутске; но, конечно, кроме аристократок-чиновниц, которые не любили ее за превосходство ума и образования и за гордую независимость, с которою она, женщина небогатая, держалась относительно их.
Вот у Ротчевой-то, как я сказал, мне приходилось чаще всего встречаться с Петрашевским и толковать о всевозможных предметах. Узнав таким образом довольно близко этого человека, я могу с совершенной искренностью сказать, что Россия немало потеряла в его, замученном ссылкою, гонениями и лишениями, лице. Ум многосторонний, резко-аналитический и в то же время глубоко сочувствовавший всему гуманному, без фальши, без экивоков, не склоняясь ни перед чьим авторитетом, – он мог бы многое сделать, и не на словах только, а на деле, если бы внешность не задавила его. Что мне в нем больше всего нравилось, – это непреклонность убеждений и воли по отношению к самому себе. Он не польстился на возможность помощью муравьевской протекции и высочайших помилований реставрировать себя в чинах и званиях, а подал в сенат просьбу о пересмотре всего его дела, этой бесчеловечной и беззаконной проделки Николая и его клевретов, испуганных 1848 годом. Разумеется, он получил отказ; мало того, Корсаков сослал его снова в одно из самых глухих мест Сибири; но не лучше ли умереть в глуши, почти без куска хлеба, но с непреклонно-гордым челом, чем с гибкой спиною из почетного сословия русских политических ссыльных перейти в постыдные ряды русской бюрократии и даже, пожалуй, дослужиться до пенсии от тех самых деспотов, с которыми боролся и которых ни любить, ни уважать никогда не мог? В этом смысле разница между Петрашевским и многими его товарищами по истории 1849 года огромна… Львов, Спешнев, Достоевский… что выиграли они морально от своей реставрации?
Я не был ни другом, ни даже приятелем Михаила Васильевича, а только добрым знакомым, который, когда мог, служил ему чем-нибудь, например книгами и журналами, и который иногда пользовался его услугами, например, по переводу с немецкого кое-каких географических сочинений; но нечто хорошее связывало нас настолько, что в день прощания я увидел у Петрашевского на глазах сверкавшие меж ресниц слезы. Мне было приятно оставить ему на память несколько книг, которые увозить с собою из Иркутска я не видел нужды. И когда я приехал в Петербург, у меня из длинной вереницы моих восточносибирских знакомых ярче других рисовались он да еще madame Ротчева.
Эту последнюю ее иркутские недоброжелательницы иногда называли «синим чулком» и «академиком в чепце»; но то была неудачная ложь. С тактом светски образованной женщины Ротчева всего менее походила на «синий чулок», на «семинариста в женской шали» и даже на «академика в чепце». А вот кто в Иркутске был академиком, хоть не в чепце, а в панталонах, с Анной на шее, – это Илларион Сергеевич Сельский. Он тоже принадлежал к сибирской интеллигенции и даже стоял официально в центре местного ученого кружка, то есть Сибирского отдела Географического общества. Несмотря на свой пожилой возраст и долгое пребывание в чиновничьей среде, он любил науку, и хотя был отсталым по многим ее отраслям, но все-таки сохранился открытым для всяких научных вопросов, особенно географических. Восточную Сибирь он знал, я думаю, лучше, чем кто-нибудь, как по личному осмотру значительной части ее, так и по книгам и документам, которых в отделе было немало и часть которых он собрал сам в разных архивах и от разных местных писателей. При нем отдел Русского Географического общества жил полной жизнью, издавал исправно книжки «Записок» и служил сборным пунктом всех, кто в Иркутске интересовался знанием. Сельский был, во-первых, отец-архивариус и, во-вторых, непременный секретарь этой походной академии, которая так часто менялась в своем составе. Как член Совета Главного управления, он едва ли имел серьезное влияние на ход дел в Сибири, потому что боялся Муравьева; но все же лишнею спицею в колеснице не был. Он возбуждал насмешки своим скопидомством; но никто не смел бы сказать, что им что-либо приобретено нечестным путем… кроме разве рукописей, про которые Н. Н. Муравьев как-то говорил мне на Зее, что «если распорядиться немного деспотически с Илларионом Сергеевичем, то у него можно открыть немало вещей из якутского и других архивов…». Может быть, даже почти наверное, так; но хищничества Сельского не имели характера личного присвоения, а служили на пользу науки, спасая от забвения и гибели многие интересные документы. Я бы мог лично претендовать на «скопидома» за продажу им Бенардаки, за 225 рублей, моего отчета об Уссури без моего согласия; но он сам заплатил мне за рукопись 150 рублей из сумм отдела. Если затем он соспекулировал на 75 рублей, то я готов думать, что не в собственную пользу, а для казны отдела. Притом он уже не возражал, когда я, узнав о его «обороте», передал статью секретарю самого Географического общества Ламанскому, в Петербурге, для «Вестника» общества, гораздо более распространенного в ученом мире, чем «Записки» Восточно-Сибирского отдела.
Из членов или постоянных посетителей этого отдела – настоящей иркутской академии муравьевского времени, можно бы вспомнить Шварца, Рашкова, Радде, Крыжина и Усольцева, то есть членов сибирской географической экспедиции 1855–1859 годов; доктора Кашина из Забайкалья; священника Аргентова из Нижне-Колымска; местных иркутских чиновников Маака, Гаупта и Пермыкина; горных инженеров Аносова, Баснина, Клейменова, Фитингофа; моих штабных сослуживцев – Будогосского, Турбина и Сгибнева, из которых последний был преемником Сельского в отделе; инженера Романова, столь прославившегося статьями об Амуре; купца Соловьева, который дал 15 000 рублей на исследование Амура натуралистом Мааком и на великолепное издание его отчета; купца же Пежемского, ведшего летопись Иркутска, и пр. Но что можно было сказать об их научной деятельности, – они сказали сами, и мне прибавлять, кажется, нечего. Довольно того, что их в муравьевское время было немало и что стоило Муравьеву уйти из Сибири, чтобы и они мало-помалу рассеялись по обширному пространству России: одни, – чтобы трудиться по-прежнему в области знания, другие, – чтобы заглохнуть в бюрократическом омуте. Самый блистательный представитель науки в послемуравьевское время – Н. М. Пржевальский[97 - Пржевальский Н. М. (1839–1889) – выдающийся русский путешественник, в 1867–1869 годах совершил свою первую экспедицию в Уссурийский край.] недолго оставался в Восточной Сибири, да и покамест был там, – сторонился или был отстраняем от местных влиятельных сфер. За довольно ярким днем, осветившим Сибирь и Амур в 1850–1860 годах, скоро наступила почти непроглядная ночь, которой, по счастью, я уже не был личным свидетелем. В этой ночи светилами явились лишь некоторые ссыльные поляки – Годлевский, Дыбовский, Чекановский да будущий эмигрант князь П. А. Кропоткин.
notes
Сноски
1
Иркутск в те годы представлял административный центр Восточной Сибири и Дальнего Востока.
2
Муравьев Н. Н., позднее Муравьев-Амурский (1809–1881), – генерал-губернатор Восточной Сибири, один из главных инициаторов воссоединения Приамурья с Россией и заселения края русскими переселенцами. «Человек с государственным смыслом», – по отзыву Герцена, – Муравьев-Амурский «безо всякого сравнения, умнее, образованнее и честнее кабинета (министров. – А. С.) совокупно». Отмечая эти качества, Герцен одновременно разоблачал деспотические замашки восточносибирского генерал-губернатора и дал ему меткую характеристику: «демократ и татарин, либерал и деспот». Демократические высказывания, связи Муравьева-Амурского с декабристами, отбывавшими ссылку в Восточной Сибири, не прошли ему даром. По настоянию царской охранки – Третьего отделения – он был в 1861 году снят с генерал-губернаторского поста и закончил жизнь в добровольной эмиграции.
3
Путятин Е. В. (1803–1883) – адмирал, дипломат. В качестве представителя России в 1855 году заключил трактат с Японией. В 1857 году направлялся для дипломатических переговоров с китайским правительством. После неудачных попыток проникнуть в Пекин сухопутным путем отправился морем через Шанхай. С 1861 года был назначен министром народного просвещения и пытался репрессиями подавить студенческое движение, но вскоре под давлением демонстраций учащейся молодежи был смещен со своего поста.
4
Д'Анвиль Ж. Б. (1697–1789) и Клапрот – западноевропейские географы и картографы, использовавшие китайские источники для составления карт Маньчжурии и Китая.
5
Иоакинф (Н. Я. Бичурин) (1777–1853) знаменитый русский китаевед, в 1805–1822 годах был начальником русской духовной миссии в Пекине. Будучи прекрасным знатоком китайского языка, литературы, истории, социального строя, оставил после себя многочисленные сочинения, в которых впервые в мировой науке дал правильное представление о великом китайском народе. Его работы наносили удар по западноевропейскому китаеведению, третировавшему китайский народ как «неполноценный». За атеистические взгляды подвергался гонениям со стороны церковных властей.
6
Кяхта, тогда торговая слободка, находившаяся в трех километрах от окружного центра – города Троицкосавска, – единственный пункт торговли русских с Китаем до 1858 года. Против Кяхты располагался китайский пограничный торговый пункт Маймачен.
7
А нужно заметить, что мы, с своей стороны, делали все, чтобы показать китайцам особую исключительную важность посла. Для этой цели, например, в Троицкосавске, по приказанию генерал-губернатора, музыка местного линейного батальона ежедневно, в известные часы, играла перед окнами «высокой особы из Петербурга», что, конечно, приводило в истерическое раздражение г. посла, но зато внушало маймаченским китайцам понятие о нем как о самом высоком сановнике, достойном богдыхана.
8
Урга – прежнее название города Улан-Батора, ныне столицы Монгольской Народной Республики.
9
Нессельроде К В. (1780–1862) – царский министр иностранных дел с 1816 по 1856 год, поддерживал европейскую реакцию, ярый противник воссоединения Приамурья с Россией.
10
Невельской Г. И. (1813–1876) – адмирал, знаменитый русский географ, исследователь Дальнего Востока, открывший устье Амура и установивший островное положение Сахалина. Один из главных инициаторов решения амурского вопроса.
11
Одному из советников Главного управления Муравьев, на первых же порах, бросил в лицо его доклад, направленный по корыстным расчетам в неправую сторону, и приказал «убираться вон».
12
Бенкендорф А. X. (1783–1844) – один из реакционнейших министров Николая I, шеф жандармов, организатор и начальник Третьего отделения.
13
Так говорил мне сам Муравьев; но не смешал ли он тут Бенкендорфа с Перовским или Орловым, – не могу сказать. Кажется, что Бенкендорфа в 1848–1849 годах уже не было у дел. Впрочем, сущность дела от этого не изменяется и мнение Николая I о декабристах остается в своей силе. Не ему ли они обязаны тем, что к ним в Читу был назначен комендантом Лепарский, которого сами они и члены их семей хвалят? В таком случае это любопытный психологический факт: с одной стороны, виселицы и разные свирепости против побежденных врагов, с другой – уважение к личностям их, поблажки*. Впрочем, вся человеческая жизнь обыкновенно слагается из подобных противоречий… Не нужно еще забывать и того, что Муравьев был почитателем Николая именно как нравственного лица, у которого будто бы за жесткими формами скрывалось доброе сердце.
* Николай I (1796–1855) – российский император и отъявленный крепостник, душитель революционного движения, отличался исключительным лицемерием. Вот его резолюция по поводу одного солдатского дела: «В России, слава богу, нет смертной казни – дать ему 12 тысяч палок».
В данном случае М. И. Венюков принял лицемерие за подлинную монету. Отношение же автора к Николаю I было совершенно ясное, как к душителю свободной мысли, как к «венчанному вахмистру» («Из воспоминаний», книга первая, стр. 74).
14
Впрочем, на одной станции, под Читою, содержатель ее, еврей Шмыйлович, угостил нас шампанским.
15
Не все члены последнего знали, однако же, о свойствах обеда; например, барон Остен-Сакен, тогда юноша лет 20-ти, ничего не слыхал о перце до 1878 года, как удостоверил меня в том письменно. Зато были господа, говорившие еще в 1857 году на Амуре, что «генерал-губернатор кормит посланника и его свиту дрянью, которую бы следовало выбросить в воду, как, например, заплесневевшими страсбургскими паштетами и гнилыми консервами». И музыку, которая играла в Кяхте под окнами посла, для отдания ему почета перед глазами китайцев, считали сибирским маневром, чтобы надосадить графу Путятину и выжить его из Сибири.
16
Errare humanum est (латинск.) – человеку свойственно заблуждаться.
17