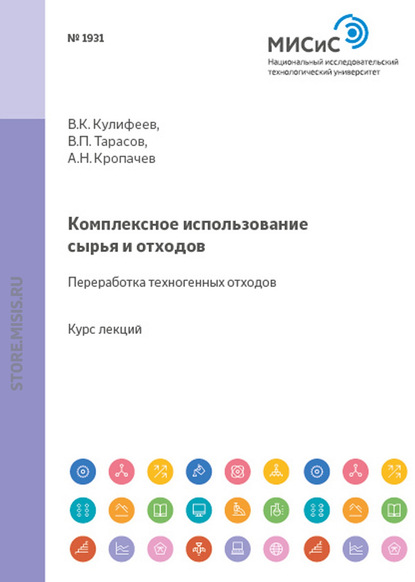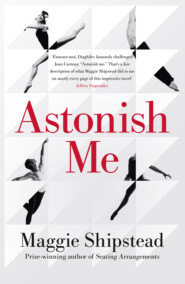По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Большой круг
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Всего-навсего приступ меланхолии, – объяснила кормилица. – Я уже такое видела. Скоро вы придете в себя.
В себя.
Воспоминания о мраке ее первых лет. Синие от луны занавески детской, рядом отец, он обнимает ее. Больше никто ее не обнимал. Тепло другого тела пьянит. Она рефлекторно хватается за ворот его шелкового халата и чувствует, как он дрожит. На этом воспоминания заканчивались.
Семь лет. Она стоит в кладовке дома в Мюррей Хилле, задрав платье, а в ногах у нее сидит сын кухарки, мальчик лет одиннадцати. С порога рваный крик, и влетает что-то огромное, заполошное. Шумная няня с большой грудью и черным подолом заполняет небольшое пространство, как сорока, залезшая в воробьиное гнездо. Кухаркин сын вопит, пока его лупят. Няня крикнула всего один раз, вначале, а потом, таща Аннабел вверх по лестнице и запирая ее в кладовке, молчала и только возбужденно сопела.
В кладовке темно, но через замочную скважину через коридор видно ее детскую, желтое одеяло на кровати и куклу, брошенную на пол лицом вниз.
– Я плохо себя вела? – спрашивает она у няни через дверь.
– Сама знаешь, – отвечает та. – Хуже девочек не бывает. Тебе должно быть больше, чем стыдно.
«А что там, за стыдом?» – думает Аннабел, скрючившись между совками и банками с лаком для мебели. Если ее поступок так ужасен, почему отцу, богу этого дома, у кого куда больше власти, чем даже у матери или няни, можно трогать место, за которое сын повара предложил ей лимонный леденец, только чтобы посмотреть, место, которое няня называла капусткой? «Наш с тобой секрет, – говорит ей отец, имея в виду свои посещения, – мама ничего не должна знать, поскольку ей будет завидно, как сильно он любит Аннабел, как Аннабел любит папу и как им тепло вдвоем».
В тот день, когда она показала капустку кухаркиному сыну, мать избила ее по голым ногам и по попе, называя «дрянью, дрянью, дрянью».
Первый врач прописывает ежедневные холодные ванны и вегетарианскую диету.
Няня отказывается отвечать на любые вопросы о том, что значит «дрянь».
– Такие разговоры лишь подстегнут тебя.
Хотя однажды, когда Аннабел спрашивает, плохая ли капустка и у мальчиков, няня выпаливает:
– Глупый ребенок, у мальчиков нет капустки, у них морковка.
Создается впечатление, что «дрянь» как-то связана с овощами.
С чувством неловкости, вины, по причинам, которые она не может объяснить, Аннабел, когда за ней никто не смотрит, в детской или в ванной начинает трогать свою капустку. Ощущения мягко притупляют разум, погружают в приятную атмосферу и даже имеют свойство прогонять нежелательные воспоминания, например освежеванного ягненка, виденного ею на кухне с высунутым языком, или мать, называющую ее дрянью. Они приглушают даже мысли об отце. Отец уверяет, что старается делать нечто приятное. Значит, если от его посещений ей становится страшно, с ней что-то не так. Она должна попытаться исправиться.
Девять лет. Аннабел просыпается от порыва холодного воздуха, утреннего света; желтое одеяло сдернуто. Мать стоит над ней, держа одеяло, как матадор – капоте. Слишком поздно. Аннабел понимает, что во сне ее руки забрались под ночную рубашку.
– Дрянь, – выплевывает мать, склонившись над ней, будто готовый упасть топор.
На следующую ночь няня связывает ей руки, и она спит с переплетенными, как на молитве, пальцами.
– Твоя мать прекрасная женщина, – говорит отец, гладя веревки на запястьях, но не развязывая их. – Но она не понимает, мы просто хотим, чтобы нам вместе было тепло.
– Я дрянь? – спрашивает Аннабел.
– Все мы немного дрянь, – отвечает отец.
Второй врач стар и похож на собаку, у него отеки под глазами, пятнистая кожа и длинные мочки ушей. Щипцами он извлекает из стеклянной банки одну-единственную пиявку. Раздвигает ей ноги.
Звон закладывает уши. Затемняющий все белый свет вихрится метелью, потом его разрывает резкая струя нюхательной соли. Врач выходит побеседовать с матерью, оставив дверь открытой.
– Перевозбуждение, – объясняет он. – Очень серьезно… Но пока нет оснований отчаиваться.
Еще больше холодных ванн и раз в неделю тетраборат натрия. Ей не позволяют никаких приправ, ярких красок, быстрой музыки, ничего живого, возбуждающего. Перед сном полная ложка сиропа из бутылочки янтарного цвета, погружающая ее в бездонный сон. Несколько раз утром она чувствует у себя на подушке слабый запах табака, но ничего не помнит.
В день, когда она с ужасом просыпается на окровавленной простыне – ей двенадцать, – мать говорит, что она не умрет, но кровь будет каждый месяц, как напоминание: нельзя – да, опять, всегда, – быть дрянью.
Примерно в то же время еще два события: во-первых, она обращает внимание, что не слышит больше на подушке запаха табака, и, во-вторых, ее отправляют в интернат. Жизнерадостный щебет других девочек, их книжки, молитвы на сон грядущий, тоска по дому, письма мамам, радостные танцы по парам, возня с волосами, пощипывание щек, чтобы разрумяниться, – ото всего этого она чувствует себя мрачным пауком, шныряющим среди веселых туфелек. В приступе ярости понимает, что ничего не знает о мире. Ее держали вдали от него.
Как избавиться от ужасающего невежества?
Быть внимательной. Подслушивать. Просеивать информацию и усиленно искать зацепки. Наугад брать книги из библиотеки, другие воровать у девочек, особенно запрещенные, которые те прячут. Прочесть «Грозовой перевал», «Остров сокровищ», «Двадцать тысяч лье под водой» и «Лунный камень». Прочесть «Дракулу» и пережить ужас ночных кошмаров про Ренфилда, безумного зоофага в сумасшедшем доме, скармливающего мух паукам, пауков – птицам, поедающего птиц и мечтающего употребить в пищу как можно больше жизней. Стащить «Пробуждение» и мечтать о том, как зайдешь в море, хотя ты никогда не заходила ни в какую воду, кроме ванны. (Даже в интернате ванны у нее холодные.) Из книг постепенно набрать путаных сведений: существуют и другие представления о стыде и «дряни», чем у матери. Догадаться: оказывается, иногда женщины хотят, чтобы их трогали мужчины. (Над некоторыми книгами девочки вздыхали и откидывались на подушки. «Как романтично», – говорили они, но не ей, Аннабел считалась странной.) Уверившись, что все уснули, она опять начинает трогать штучку; та уже не капустка, а заветный орган, уже не по-детски бездвижная, а живая, животная. Ощущения становятся резче, как будто остренький рыболовный крючок, цепанув за нервы, куда-то ее тащит. Ей открылись мерцание, звон, пульсация, вспышка.
Раз в неделю в интернат приходит молодой человек учить девочек играть на пианино. Он наклоняется над сидящей на скамейке Аннабел и длинными пальцами берет низкие, гулкие ноты. Он почти такой же белокурый, с изогнутыми, удивленными бровями и заметными следами расчески в волосах. Как-то раз она берет его руку и кладет себе на платье, над штучкой. Ужас на лице молодого человека смущает Аннабел.
Ее с позором переводят в другую школу, рангом пониже, но через месяц вызывают домой, поскольку умерла мать. Отец держится вежливо, правда, холодно и смущенно, кажется, он забыл о своем прежнем желании тепла. Няня исчезла, а когда Аннабел спрашивает о ней, отец отвечает: она уже слишком большая, чтобы иметь няню, не правда ли? Аннабел принимает такую горячую ванну, что выходит оттуда, как будто ее сварили.
(Лишь позже, подслушав разговор на похоронах, она узнает, что мать выпила целый флакон снотворного.)
Третья школа, та, с кленами, снежный буран. Учитель истории старше учителя музыки и не боится Аннабел. Он находит предлог вызвать ученицу к себе в кабинет.
– Как рыба в воде, – говорит учитель, избавив ее от невинности на провисшем диване. – Я видел это в тебе. Видел, что ты такая и есть.
– Что вы имеете в виду?
– В твоих глазах. Ты разве не хотела меня соблазнить?
– Наверно, – отвечает она, хотя точно не знает, чего хотела.
Она просто отвечала на его взгляды и позволила ему совершить то, что хотел он, почувствовав тупую, режущую боль; оба практически не раздевались. Потом, когда она шла по школьной лужайке, на нее навалилась грусть, которая, видимо, является послевкусием любого человеческого общения, но опыт не неприятный, и она охотно явилась к нему в кабинет, когда он вызвал ее в следующий раз. Прежде он отвернулся и что-то с собой сделал, необходимое, по его словам, чтобы не было ребенка. С опытом она научилась извлекать из его манипуляций мерцание и звон, иногда даже пульсацию и вспышку, но грусть все равно оставалась.
– Давай убежим, – предлагает он, а она смотрит на него с дивана, обескураженная тем, что он думает, будто им есть куда податься.
Из последней школы ее не исключают, а в шестнадцать выдают аттестат, и она возвращается в Нью-Йорк. Изо всех сил старается вести внешне респектабельную жизнь в качестве незамужней половины отца, его спутницы на ужинах, приемах, в путешествиях. Пытается быть хорошей, избавиться от дрянных потребностей. Но изгнать их можно, только отрубив себе голову и продолжая жить. У нее появляются любовники. Мера их скромности различна.
– Может, тебе стоит подумать о замужестве? – спрашивает отец.
Оба знают, что в Нью-Йорке никто не мечтает на ней жениться, несмотря на его состояние.
Занятия любовью приносят облегчение, да, но кроме того позор, слухи и презрение. Она хотела быть другой, не таскаться по мужчинам, не гнуться под тяжестью мрака, не испытывать жадных желаний. Но у нее не получилось. Не получилось ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне («Может, английский муж?» – предложил отец), ни в Копенгагене («Может, датский?»), ни в Париже («Может?..»), ни в Риме (об итальянском муже речи не было). Не получилось и на «Джозефине». Она не думала, будто может зачать ребенка, уверенная, что ее дрянная матка совсем сгнила.
– Эддисон Грейвз, – сказала она отцу, убедившись в беременности.
– Кто?
– Капитан. Капитан корабля.
В тот вечер, когда она познакомилась с Эддисоном, отец после ужина отправился в курительную комнату, вверив Аннабел дамской гостиной, откуда та с легкостью улизнула. Она стояла на корме «Джозефины», внимательно смотря на черную воду, на поднимающиеся от гребных винтов серебряные облака водяной пыли. Страх прошил ее, приковав руки к леерам. Она представила порыв ветра, удар холода, огромные кромсающие лопасти, удаляющиеся огни корабля.
Будет ли у нее время проследить, как корабль пропадет за горизонтом? Останется ли она одна в центре черной звездной сферы? Будут ли последним, что она увидит, бесчисленные, беззвучные искорки света? Не может быть большего одиночества. Или, думала она, большей правды. По ее опыту, близость к другим человеческим существам в общем-то не уменьшает одиночества. Она представила, как опускается все глубже, глубже, оседает на дно океана. Последняя холодная ванна, чтобы погасить огонь.
Ветер пронизывал платье. Она не могла предсказать, когда ослабнет сила воли, но той ночью дрянь ее спасла, отодрала от кильватера и потащила в каюту Эддисона. За ужином он увидел ее, какая она есть. И понял с такой силой, будто дал пощечину.
В себя.
Воспоминания о мраке ее первых лет. Синие от луны занавески детской, рядом отец, он обнимает ее. Больше никто ее не обнимал. Тепло другого тела пьянит. Она рефлекторно хватается за ворот его шелкового халата и чувствует, как он дрожит. На этом воспоминания заканчивались.
Семь лет. Она стоит в кладовке дома в Мюррей Хилле, задрав платье, а в ногах у нее сидит сын кухарки, мальчик лет одиннадцати. С порога рваный крик, и влетает что-то огромное, заполошное. Шумная няня с большой грудью и черным подолом заполняет небольшое пространство, как сорока, залезшая в воробьиное гнездо. Кухаркин сын вопит, пока его лупят. Няня крикнула всего один раз, вначале, а потом, таща Аннабел вверх по лестнице и запирая ее в кладовке, молчала и только возбужденно сопела.
В кладовке темно, но через замочную скважину через коридор видно ее детскую, желтое одеяло на кровати и куклу, брошенную на пол лицом вниз.
– Я плохо себя вела? – спрашивает она у няни через дверь.
– Сама знаешь, – отвечает та. – Хуже девочек не бывает. Тебе должно быть больше, чем стыдно.
«А что там, за стыдом?» – думает Аннабел, скрючившись между совками и банками с лаком для мебели. Если ее поступок так ужасен, почему отцу, богу этого дома, у кого куда больше власти, чем даже у матери или няни, можно трогать место, за которое сын повара предложил ей лимонный леденец, только чтобы посмотреть, место, которое няня называла капусткой? «Наш с тобой секрет, – говорит ей отец, имея в виду свои посещения, – мама ничего не должна знать, поскольку ей будет завидно, как сильно он любит Аннабел, как Аннабел любит папу и как им тепло вдвоем».
В тот день, когда она показала капустку кухаркиному сыну, мать избила ее по голым ногам и по попе, называя «дрянью, дрянью, дрянью».
Первый врач прописывает ежедневные холодные ванны и вегетарианскую диету.
Няня отказывается отвечать на любые вопросы о том, что значит «дрянь».
– Такие разговоры лишь подстегнут тебя.
Хотя однажды, когда Аннабел спрашивает, плохая ли капустка и у мальчиков, няня выпаливает:
– Глупый ребенок, у мальчиков нет капустки, у них морковка.
Создается впечатление, что «дрянь» как-то связана с овощами.
С чувством неловкости, вины, по причинам, которые она не может объяснить, Аннабел, когда за ней никто не смотрит, в детской или в ванной начинает трогать свою капустку. Ощущения мягко притупляют разум, погружают в приятную атмосферу и даже имеют свойство прогонять нежелательные воспоминания, например освежеванного ягненка, виденного ею на кухне с высунутым языком, или мать, называющую ее дрянью. Они приглушают даже мысли об отце. Отец уверяет, что старается делать нечто приятное. Значит, если от его посещений ей становится страшно, с ней что-то не так. Она должна попытаться исправиться.
Девять лет. Аннабел просыпается от порыва холодного воздуха, утреннего света; желтое одеяло сдернуто. Мать стоит над ней, держа одеяло, как матадор – капоте. Слишком поздно. Аннабел понимает, что во сне ее руки забрались под ночную рубашку.
– Дрянь, – выплевывает мать, склонившись над ней, будто готовый упасть топор.
На следующую ночь няня связывает ей руки, и она спит с переплетенными, как на молитве, пальцами.
– Твоя мать прекрасная женщина, – говорит отец, гладя веревки на запястьях, но не развязывая их. – Но она не понимает, мы просто хотим, чтобы нам вместе было тепло.
– Я дрянь? – спрашивает Аннабел.
– Все мы немного дрянь, – отвечает отец.
Второй врач стар и похож на собаку, у него отеки под глазами, пятнистая кожа и длинные мочки ушей. Щипцами он извлекает из стеклянной банки одну-единственную пиявку. Раздвигает ей ноги.
Звон закладывает уши. Затемняющий все белый свет вихрится метелью, потом его разрывает резкая струя нюхательной соли. Врач выходит побеседовать с матерью, оставив дверь открытой.
– Перевозбуждение, – объясняет он. – Очень серьезно… Но пока нет оснований отчаиваться.
Еще больше холодных ванн и раз в неделю тетраборат натрия. Ей не позволяют никаких приправ, ярких красок, быстрой музыки, ничего живого, возбуждающего. Перед сном полная ложка сиропа из бутылочки янтарного цвета, погружающая ее в бездонный сон. Несколько раз утром она чувствует у себя на подушке слабый запах табака, но ничего не помнит.
В день, когда она с ужасом просыпается на окровавленной простыне – ей двенадцать, – мать говорит, что она не умрет, но кровь будет каждый месяц, как напоминание: нельзя – да, опять, всегда, – быть дрянью.
Примерно в то же время еще два события: во-первых, она обращает внимание, что не слышит больше на подушке запаха табака, и, во-вторых, ее отправляют в интернат. Жизнерадостный щебет других девочек, их книжки, молитвы на сон грядущий, тоска по дому, письма мамам, радостные танцы по парам, возня с волосами, пощипывание щек, чтобы разрумяниться, – ото всего этого она чувствует себя мрачным пауком, шныряющим среди веселых туфелек. В приступе ярости понимает, что ничего не знает о мире. Ее держали вдали от него.
Как избавиться от ужасающего невежества?
Быть внимательной. Подслушивать. Просеивать информацию и усиленно искать зацепки. Наугад брать книги из библиотеки, другие воровать у девочек, особенно запрещенные, которые те прячут. Прочесть «Грозовой перевал», «Остров сокровищ», «Двадцать тысяч лье под водой» и «Лунный камень». Прочесть «Дракулу» и пережить ужас ночных кошмаров про Ренфилда, безумного зоофага в сумасшедшем доме, скармливающего мух паукам, пауков – птицам, поедающего птиц и мечтающего употребить в пищу как можно больше жизней. Стащить «Пробуждение» и мечтать о том, как зайдешь в море, хотя ты никогда не заходила ни в какую воду, кроме ванны. (Даже в интернате ванны у нее холодные.) Из книг постепенно набрать путаных сведений: существуют и другие представления о стыде и «дряни», чем у матери. Догадаться: оказывается, иногда женщины хотят, чтобы их трогали мужчины. (Над некоторыми книгами девочки вздыхали и откидывались на подушки. «Как романтично», – говорили они, но не ей, Аннабел считалась странной.) Уверившись, что все уснули, она опять начинает трогать штучку; та уже не капустка, а заветный орган, уже не по-детски бездвижная, а живая, животная. Ощущения становятся резче, как будто остренький рыболовный крючок, цепанув за нервы, куда-то ее тащит. Ей открылись мерцание, звон, пульсация, вспышка.
Раз в неделю в интернат приходит молодой человек учить девочек играть на пианино. Он наклоняется над сидящей на скамейке Аннабел и длинными пальцами берет низкие, гулкие ноты. Он почти такой же белокурый, с изогнутыми, удивленными бровями и заметными следами расчески в волосах. Как-то раз она берет его руку и кладет себе на платье, над штучкой. Ужас на лице молодого человека смущает Аннабел.
Ее с позором переводят в другую школу, рангом пониже, но через месяц вызывают домой, поскольку умерла мать. Отец держится вежливо, правда, холодно и смущенно, кажется, он забыл о своем прежнем желании тепла. Няня исчезла, а когда Аннабел спрашивает о ней, отец отвечает: она уже слишком большая, чтобы иметь няню, не правда ли? Аннабел принимает такую горячую ванну, что выходит оттуда, как будто ее сварили.
(Лишь позже, подслушав разговор на похоронах, она узнает, что мать выпила целый флакон снотворного.)
Третья школа, та, с кленами, снежный буран. Учитель истории старше учителя музыки и не боится Аннабел. Он находит предлог вызвать ученицу к себе в кабинет.
– Как рыба в воде, – говорит учитель, избавив ее от невинности на провисшем диване. – Я видел это в тебе. Видел, что ты такая и есть.
– Что вы имеете в виду?
– В твоих глазах. Ты разве не хотела меня соблазнить?
– Наверно, – отвечает она, хотя точно не знает, чего хотела.
Она просто отвечала на его взгляды и позволила ему совершить то, что хотел он, почувствовав тупую, режущую боль; оба практически не раздевались. Потом, когда она шла по школьной лужайке, на нее навалилась грусть, которая, видимо, является послевкусием любого человеческого общения, но опыт не неприятный, и она охотно явилась к нему в кабинет, когда он вызвал ее в следующий раз. Прежде он отвернулся и что-то с собой сделал, необходимое, по его словам, чтобы не было ребенка. С опытом она научилась извлекать из его манипуляций мерцание и звон, иногда даже пульсацию и вспышку, но грусть все равно оставалась.
– Давай убежим, – предлагает он, а она смотрит на него с дивана, обескураженная тем, что он думает, будто им есть куда податься.
Из последней школы ее не исключают, а в шестнадцать выдают аттестат, и она возвращается в Нью-Йорк. Изо всех сил старается вести внешне респектабельную жизнь в качестве незамужней половины отца, его спутницы на ужинах, приемах, в путешествиях. Пытается быть хорошей, избавиться от дрянных потребностей. Но изгнать их можно, только отрубив себе голову и продолжая жить. У нее появляются любовники. Мера их скромности различна.
– Может, тебе стоит подумать о замужестве? – спрашивает отец.
Оба знают, что в Нью-Йорке никто не мечтает на ней жениться, несмотря на его состояние.
Занятия любовью приносят облегчение, да, но кроме того позор, слухи и презрение. Она хотела быть другой, не таскаться по мужчинам, не гнуться под тяжестью мрака, не испытывать жадных желаний. Но у нее не получилось. Не получилось ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне («Может, английский муж?» – предложил отец), ни в Копенгагене («Может, датский?»), ни в Париже («Может?..»), ни в Риме (об итальянском муже речи не было). Не получилось и на «Джозефине». Она не думала, будто может зачать ребенка, уверенная, что ее дрянная матка совсем сгнила.
– Эддисон Грейвз, – сказала она отцу, убедившись в беременности.
– Кто?
– Капитан. Капитан корабля.
В тот вечер, когда она познакомилась с Эддисоном, отец после ужина отправился в курительную комнату, вверив Аннабел дамской гостиной, откуда та с легкостью улизнула. Она стояла на корме «Джозефины», внимательно смотря на черную воду, на поднимающиеся от гребных винтов серебряные облака водяной пыли. Страх прошил ее, приковав руки к леерам. Она представила порыв ветра, удар холода, огромные кромсающие лопасти, удаляющиеся огни корабля.
Будет ли у нее время проследить, как корабль пропадет за горизонтом? Останется ли она одна в центре черной звездной сферы? Будут ли последним, что она увидит, бесчисленные, беззвучные искорки света? Не может быть большего одиночества. Или, думала она, большей правды. По ее опыту, близость к другим человеческим существам в общем-то не уменьшает одиночества. Она представила, как опускается все глубже, глубже, оседает на дно океана. Последняя холодная ванна, чтобы погасить огонь.
Ветер пронизывал платье. Она не могла предсказать, когда ослабнет сила воли, но той ночью дрянь ее спасла, отодрала от кильватера и потащила в каюту Эддисона. За ужином он увидел ее, какая она есть. И понял с такой силой, будто дал пощечину.