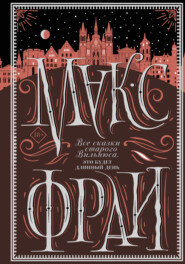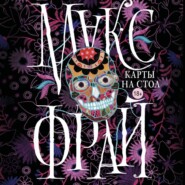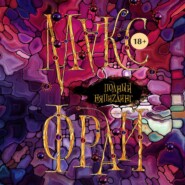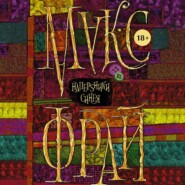По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тяжелый свет Куртейна (темный). Зеленый. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нёхиси
апрель 2020 года
В городе пусто, по улицам почти никто не гуляет; это, слава богу, не запрещается, но горожане так боятся хорошо разрекламированной болезни, что добровольно сидят по домам. А тем немногим, кто выходит на опустевшие улицы, достаются все весенние чудеса, которые на безлюдье окончательно обнаглели и, не скрываясь, творятся среди бела дня.
В частности, если бы кто-то шёл сейчас по улице Аукштайчю, где уже расцвела самая первая в городе дикая слива, торопыга, каких не видывал мир, мог бы без всякой спецподготовки увидеть обычными человеческими глазами, что на ветках цветущего дерева сидят два, прости господи, эльфа – лохматых, босых и с сигарами в сияющих, словно бы жидкой радугой облитых руках. Один, невзирая на это призрачное свечение, выглядит, как здоровенный мужик, другой немного помельче, но разница несущественная. Не настолько он мельче, чтобы на такой тонкой ветке сидеть. Впрочем, под здоровенным ветка тоже не гнётся, как под каким-нибудь воробьём.
– Натурально сбылась золотая мечта моей мизантропической юности, – говорит здоровенный. – Как же я тогда хотел оказаться в мире, где нет людей! Ладно, примерно сотню я, так и быть, соглашался оставить: моих друзей, Нину Хаген, ещё нескольких музыкантов, всех Новых Диких в полном составе и писателя Борхеса, благо старик тогда был ещё жив. И больше никого нам не надо. Отлично без человечества проживём. Кофе, вина и консервов надолго хватит, если все мировые запасы поделить на несчастную сотню ртов, значит, с производством можно не заморачиваться, а просто жить в своё удовольствие – так я тогда рассчитал. Но будешь смеяться, я на всякий случай научился чинить сантехнику и проводку. И ещё разное по мелочам. Ясно же, что Борхес и Нина Хаген вряд ли помогут, если вдруг что.
– Самое прекрасное в этой истории, что ты не просто мечтал о чём-то совершенно для тебя невозможном, а технически к нему подготовился.
– Слушай, ну мало ли. Вдруг мечты возьмут и каааак сбудутся! Никогда не знаешь, где тебе повезёт. А я же цаца балованная. Ни при каких обстоятельствах не желаю кофе варить на лучине и справлять нужду под кустом. Но оказалось, ни к чему нельзя заранее подготовиться. Хоть убейся, не угадаешь, что надо делать, и как. Потому что мечты сбываются не для мечтателя, а для того, кем он когда-нибудь станет. И не в том виде, как было задумано, а как захочется левой пятке кого-нибудь из сотрудников Небесной Канцелярии. Но мне-то грех обижаться. Тебя бы я не придумал, сколько бы ни мечтал. А себя вот такого – тем более. Смешная штука моя судьба.
– Моя тоже смешная, – откликается тот, что помельче. – Не представляешь, как я этому рад! – И тут же превращается в нечто вроде нарисованного неумелой детской рукой дракона с осьминожьми щупальцами и как минимум сотней разноцветных сверкающих глаз, разбросанных по всему телу где редко, где густо, как мелкие жёлтые сливы в траве в урожайный год.
* * *
В этот момент на улице Аукштайчю появляются двое – взрослая женщина, одетая для спортивной прогулки, и франтоватый, словно нарядившийся для вечеринки молодой человек. Останавливаются в нескольких метрах от забора, за которым растёт цветущая слива, некоторое время молча смотрят на, прости господи, эльфа и как бы условно дракона, удобно расположившихся на ветвях, наконец переглядываются: «Ты тоже видишь?» – «Ага!» – «Так становятся духовидцами и пророками» – «Сходят с ума» – «Ай, да какая разница, лишь бы не перестали показывать» – «Дорогие галлюцинации, продолжайтесь, пожалуйста! Будьте у нас всегда!» – и дружно хохочут от невозможности ни согласиться с увиденным, ни от него отказаться, да и просто от радости, от которой здесь воздух дрожит.
– Да, вот ровно настолько смешная, спасибо, – невозмутимо говорит крылатый дракон с глазами и щупальцами после того, как случайные свидетели его бытия, то и дело оглядываясь и пихая друг другом локтями: – «Мама, что это было?» – «Не было, а есть, я их ещё вижу» – «Я тоже вижу, а телефон не берёт!» – шатаясь, как пьяные, уходят куда-то в сторону новых прибрежных домов.
– Смешная-то она смешная, а всем остальным всемогущим тоже не помешало бы так влипнуть, – продолжает он, ухватившись за ветку одним из щупалец и раскачиваясь на весеннем ветру. – Потому что только умалив себя до почти отсутствия, способное поместиться в этот ваш хрупкий человеческий мир, получаешь возможность ежедневно осознавать себя не чем-то само собой разумеющимся, а невозможным, немыслимым чудом. Тем, что ты на самом деле и есть!
– «До почти отсутствия»? – с интересом переспрашивает здоровенный. – Это какое же масштабное должно быть присутствие, если «почти отсутствие» выглядит так!
– Да, по здешним меркам я довольно огромный, – скромно соглашается чудо-дракон. – Но разница несущественна. Это, знаешь, как песня остаётся одной и той же вне зависимости от того, под нос ты её напеваешь или во весь голос орёшь.
На какое-то время над цветущим деревом, улицей и текущей мимо рекой воцаряется такая умиротворённая тишина, что в небе появляются антрацитово-чёрные бабочки с размахом крыльев, как у странствующего альбатроса[11 - То есть примерно 3,5 метра] и, покружив над пустынным городом, улетают неизвестно куда. Ну, это как раз нормально, вполне обычное дело, из молчания Нёхиси чего только порой не рождается. Вот и сейчас.
– Интересно, их кто-то ещё увидит? – спрашивает здоровенный, будем считать, что эльф.
– Да запросто. Если уж даже нас увидели. Для тех, кто гуляет по настолько безлюдному городу, ничего невозможного нет.
– Вот это самое невероятное. О таком я даже и не мечтал, когда дурил головы всем, до кого дотягивался, и при этом всегда понимал, до какой степени этого мало – даже не капля в море, а молекула в океане, не о чем говорить. Хорошо же наши горожане устроились! Ничего руками и священными мантрами делать не надо, достаточно просто выйти из дома, и все чудеса мира твои. Причём не только странные зрелища, вроде бабочек, или нас. Такие события происходят! Такие делаются дела! Боюсь, я за все эти годы столько не натворил, сколько с начала весны случилось совершенно самостоятельно, словно иначе и быть не могло. Я видел, как одна девчонка встретилась со своей тайной тенью – здесь совсем рядом, в холмах. Стояли, прижавшись друг к дружке, спина к спине, как положено; чем дело кончилось, я не знаю, ушёл, чтобы им не мешать. И как другая девчонка, обнявшись со старым деревом, за десять минут прожила всю его долгую жизнь, и теперь знает и умеет всё, что умеют старые деревья. В каком-то смысле она и есть старое дерево, хотя с виду по-прежнему человек. И как двое мальчишек гуляли вон по тому холму – один наяву, а второй в это время спал в тысяче километров отсюда, но выглядел настолько вещественным, что даже я не сразу понял, что с ним не так. Интересно, где он в итоге проснулся? Вот смеху будет, если у нас!..
– Это всё-таки вряд ли, – говорит стоглазый дракон, постепенно принимая форму плоского воздушного змея; похоже, он позавидовал бабочкам и теперь тоже хочет летать. – Готов спорить, что его перехватили сотрудники Стефана и отправили просыпаться туда, где он улёгся спать. Они за этим следят очень строго, не потому что такие уж вредные, просто подобные перемещения в человеческом теле лучше не совершать. Оно целиком, понимаешь, не собирается. Совершенно не представляю, какие тут могут быть затруднения, тем не менее, это так.
– Да вредные они! – смеётся условный эльф. – До жути они там все вредные, Стефан команду под себя подбирал. Но может, для дела оно и неплохо. Я же помню, как был человеком. Ужасно хлипкая конструкция, от любой ерунды ломается! Так что начинающих гениев, которые сами не понимают, как у них чего получилось и зачем оно было надо, и правда, лучше превентивно спасать… Но вообще удивительно, что у нас тут творится сейчас! Я же сперва, когда началась эта паника, был уверен, что мир сейчас от избытка страха окончательно и бесповоротно испортится, а вышло вот так.
– Избыток страха ни одной реальности не на пользу, тот ещё яд, – соглашается воздушный змей в форме дракона и взмывает ввысь. Впрочем, тут же возвращается, устраивается поудобнее, обмотав хвостом цветущую ветку, чтобы его невесомое тело ветром не унесло, и рассудительно говорит: – Но иногда, сам знаешь, и от яда бывает польза, если правильно его применять. Вот и сейчас люди попрятались по домам и так заняты своим страхом, что им просто внимания не хватает на весь остальной мир. Не видят его, не слышат, не думают ни о чём, кроме себя, и не мешают проявляться тому, что у них считается невозможным. Не смотрят под руку, я бы сказал. Зато каждый, кто сейчас выходит из дома, сразу оказывается в настолько необычной для себя обстановке, что заранее готов практически ко всему, и оно тут же с превеликим удовольствием происходит – с самим человеком, или хотя бы у него на глазах. В местах вроде нашего города, где чудес и так выше крыши, от людей только это и требуется – им и себе не мешать.
– Интересно, чем это закончится? К чему мы в итоге придём? Что будет? Ты же у нас всеведущий? Значит знаешь наверняка!
– «Что будет?» – вопрос совершенно бессмысленный, если задавать его мне, – смеётся воздушный змей. – С моей точки зрения, ничего никогда не «будет», потому что всё уже есть. Сотворение мира ещё продолжается, он творится в каждый момент. И гибель этого мира даже не то что предрешена, он уже вот прямо сейчас – ежесекундно, всегда – гибнет, продолжая безмятежно твориться, и вместе это создаёт звенящее, ликующее напряжение, которое, собственно, и есть жизнь.
Эдо
апрель 2020 года
Теоретически, он должен был бы сочувствовать горожанам, запуганным новостями об эпидемии: сам долго был человеком Другой Стороны, не понаслышке знал, как силён в них страх, какой беспощадной липкой волной поднимается при малейшей опасности паника, как она заливает всякий ясный, казалось бы, ум. И что всё это происходит не от хорошей жизни, а от нехорошей, страшной, мучительной смерти, которая маячит у всех в перспективе, он тоже прекрасно знал.
Но сочувствия не испытывал, причём именно потому, что сам много лет был настоящим человеком Другой Стороны, без обычных привилегий гостя с изнанки. Никуда не мог отсюда сбежать, даже смутными воспоминаниями о прежней жизни не утешался, не о чем было ему тогда вспоминать. Да и сейчас Эдо вовсе не был уверен, что в случае чего умрёт легко, без страданий и последнего смертного ужаса, положенного уроженцам Другой Стороны. Наоборот, считал, что шансов на это немного: в конце концов, счастливой домашней материи в теле всего-то шестая часть. И думал: если уж даже я – не только видавший виды сегодняшний, но и тот, каким был пару лет назад, – сейчас наплевал бы на меры предосторожности и преспокойно отправился бы гулять, они тем более могут. Психика-то у большинства, по идее, покрепче, чем у нервных гуманитариев с артистическим воображением, вроде меня. На Другой Стороне столько возможностей в любой момент мучительно умереть, что на пару не самых добрых вселенных хватило бы. И как минимум нелогично так паниковать из-за всего-то одной дополнительной, даже если о ней истерически орут из всех утюгов и чайников со свистками. И из чего там нынче ещё орут.
Поэтому никакого сочувствия к перепуганным горожанам он не испытывал. Просто радовался, что они попрятались по домам. Никогда до сих пор не жил в опустевшем городе, и ему неожиданно очень понравилось, хотя мизантропом себя не считал. Он любил находиться в весёлой, пёстрой, многоязычной, бесшабашной виленской толпе, слушать, смотреть, обмениваться репликами с незнакомцами, ловить приветливые взгляды и улыбаться в ответ – не только дома, где это всем с детства знакомая, понятная и доступная форма счастья, но и здесь, на Другой Стороне.
Однако в опустевшем городе Эдо впал в почти неприличный восторг и экстаз. Чувствовал себя богатым наследником, словно горожане ему лично оставили улицы, булыжные тротуары, закрытые бары, крыши, вымытые дождями и всю остальную свою развесёлую жизнь.
Гулял по безлюдному городу, покупал кофе на вынос, пил его на заколоченных ресторанных верандах, на гулких, апокалиптически пустых площадях, в чужих палисадниках, в парках, без публики окончательно ставших похожими на леса. Чувствовал себя героем авангардного кинофильма, чей сценарист забил на сюжет, режиссёр запил в первый же съёмочный день и отдавал бессмысленные команды, зато художник-постановщик и оператор оказались гениями: в жизни ещё не видел настолько красивой весны. Даже дома, на Этой Стороне, где вёсны такие пронзительные, что когда забываешь себя и всё остальное, их почему-то помнишь, думаешь, что приснились, и каждый год мечешься между разными городами и странами в смутной надежде где-то однажды увидеть такое же наяву.
Но весна двадцатого года на Другой Стороне оказалась даже круче домашних. И почти бесконечно длинной, если вести отсчёт, как он всегда вёл, от самых первых подснежников – в этом году они появились ещё в январе. В феврале начали цвести крокусы, в марте, почти на месяц раньше обычного срока жёлтыми кострами запылали форзиции, первая дикая слива расцвела тоже в марте, успела в самый последний день, а в начале апреля над Старым городом уже клубились бело-розовые облака.
Он теперь почти безвылазно сидел на Другой Стороне, домой возвращался только когда того требовали дела. Целыми днями бродил по улицам, окончательно забив даже на подготовку к лекциям, выезжал на чистой импровизации, хотя это, конечно, бардак и позорище, сам понимал. Корректуру книги отправил в издательство вычитанной на три четверти: сколько успел до неудавшейся поездки в Вену, в таком виде им и отдал. Всегда был страшным педантом, воевавшим за каждую свою запятую, а теперь стало всё равно. Ничего не имело значения, кроме пьянящего весеннего воздуха, горького дыма садовых костров, наглой юной травы, вездесущих пролесок, синих, как крошечные Маяки, и того, что мир теперь всегда был зелёный и золотой, зыбкий, текучий, окутанный сияющей паутиной, которая связывает всё со всем. Оказалось, чем меньше людей на улицах, тем явственней проявляются линии мира, не захочешь, а всё равно увидишь, никуда не денешься ты от них.
И вдруг как отрезало. Без единой мало-мальски внятной причины, ни с того, ни с сего. С утра вернулся на Эту Сторону ради очередной лекции, благополучно её прочитал, пообедал с коллегами, зашёл к Тони Куртейну, выпил с ним чаю и по рюмке домашней наливки из лепестков каких-то хитрых сахарных роз, которую сам же из любопытства купил на ярмарке в начале осени, полгода, вечность назад.
То есть он был в превосходном настроении, не особо устал, не напился, и Тони ничего такого на эту тему ему не сказал. Эдо сам удивился, когда внезапно посреди увлекательного разговора осознал, что от одной только мысли о возвращении на Другую Сторону его уносит в чёрную меланхолию, граничащую с физической тошнотой, совершенно необъяснимую, потому что только сегодня утром сидел на пустынном бульваре Вокечю, пил кофе и с удовольствием обещал себе: вот вернусь и сразу завеюсь гулять в холмы.
Его вероятно люто перекосило, потому что Тони Куртейн, увлечённо рассуждавший о сходстве социальных сетей Другой Стороны с короткой эпохой Бесцеремонных Видений в начале Третьей Империи, когда у горожан вошло в моду намеренно сниться другим, включая незаинтересованных в тебе незнакомцев, и люди так осточертели друг другу, что чуть не дошло до гражданской войны, споткнулся на полуслове. Спросил:
– Думаешь, ерунду говорю?
Эдо отрицательно помотал головой, хотя на самом деле именно так и думал. Но с положительной коннотацией. То есть с радостью слушал бы этот безумный гон до завтрашнего утра. Признался:
– Странная, знаешь, штука. Посмотрел на часы, подумал, что пора возвращаться на Другую Сторону, и вдруг такое яростное чувство протеста: «Не хочу! Не пойду!»
– Ну и не ходи, кто тебя заставляет? Или у тебя там дела?
– Да какие дела. Даже поездки мои отменились; формально неизвестно, на сколько, но по ощущению, насовсем. Просто мне нравилось жить на Другой Стороне. Там стало так интересно и странно. Как будто находишься одновременно в трансе, на курорте и в постапокалиптическом фильме; ну, я тебе уже сто раз говорил. И вдруг резко расхотелось туда возвращаться, ни с того ни с сего. Ещё утром всё было нормально. Да лучше, чем просто «нормально», офигенно мне было, даже на полдня оттуда уходить не хотел. Спасся тем, что пообещал себе тебя на десерт.
– Спасибо, – ухмыльнулся Тони Куртейн. – Десертом я ещё никогда не был. Не осознавал себя таковым.
– Ну вот, осознай. Отличный из тебя десерт получился. Заманчивый! Я сразу как миленький на лекцию побежал… Короче. Ещё сегодня утром мне на Другой Стороне было отлично. А теперь натурально чёрной тоской накрывает от мысли, что надо туда идти.
– Так на самом деле не надо. Ты же можешь сколько угодно здесь жить.
– Могу, – без особого энтузиазма согласился Эдо. – Просто понимаешь, это как игрушку отняли. Обидно. И главное, непонятно, почему и зачем. По-хорошему, надо бы мне сейчас пойти на Другую Сторону и проверить, как я там себя буду чувствовать. Может, прекрасно. Может, меня просто так перемкнуло? Ну мало ли. Имею полное право на любые заскоки, я богема и псих. Но при мысли, что надо туда пойти, мне становится тошно. И это не настолько метафора, как мне бы хотелось. По-настоящему начинает тошнить.
– Похоже, ты там всё-таки отравился, – мрачно резюмировал Тони Куртейн.
– Отравился?! Чем?
– Да тамошним страхом, как многие наши травятся.
– Многие травятся страхом на Другой Стороне?
– Ну да. Не до смерти, конечно, а как паршивой дешёвой выпивкой. Слегка. Самые распространённые симптомы – тошнота и тоска, иногда такая невыносимая, что здоровые мужики начинают рыдать. Ну, это, в общем, естественно. Следовало ожидать. Когда почти полмиллиона человек на сравнительно небольшой территории так сильно боятся одного и того же, это, как ни крути, портит воздух. А мы в среднем гораздо чувствительней, чем люди Другой Стороны.
– Фигассе, что творится. И главное, мне ни слова!
апрель 2020 года
В городе пусто, по улицам почти никто не гуляет; это, слава богу, не запрещается, но горожане так боятся хорошо разрекламированной болезни, что добровольно сидят по домам. А тем немногим, кто выходит на опустевшие улицы, достаются все весенние чудеса, которые на безлюдье окончательно обнаглели и, не скрываясь, творятся среди бела дня.
В частности, если бы кто-то шёл сейчас по улице Аукштайчю, где уже расцвела самая первая в городе дикая слива, торопыга, каких не видывал мир, мог бы без всякой спецподготовки увидеть обычными человеческими глазами, что на ветках цветущего дерева сидят два, прости господи, эльфа – лохматых, босых и с сигарами в сияющих, словно бы жидкой радугой облитых руках. Один, невзирая на это призрачное свечение, выглядит, как здоровенный мужик, другой немного помельче, но разница несущественная. Не настолько он мельче, чтобы на такой тонкой ветке сидеть. Впрочем, под здоровенным ветка тоже не гнётся, как под каким-нибудь воробьём.
– Натурально сбылась золотая мечта моей мизантропической юности, – говорит здоровенный. – Как же я тогда хотел оказаться в мире, где нет людей! Ладно, примерно сотню я, так и быть, соглашался оставить: моих друзей, Нину Хаген, ещё нескольких музыкантов, всех Новых Диких в полном составе и писателя Борхеса, благо старик тогда был ещё жив. И больше никого нам не надо. Отлично без человечества проживём. Кофе, вина и консервов надолго хватит, если все мировые запасы поделить на несчастную сотню ртов, значит, с производством можно не заморачиваться, а просто жить в своё удовольствие – так я тогда рассчитал. Но будешь смеяться, я на всякий случай научился чинить сантехнику и проводку. И ещё разное по мелочам. Ясно же, что Борхес и Нина Хаген вряд ли помогут, если вдруг что.
– Самое прекрасное в этой истории, что ты не просто мечтал о чём-то совершенно для тебя невозможном, а технически к нему подготовился.
– Слушай, ну мало ли. Вдруг мечты возьмут и каааак сбудутся! Никогда не знаешь, где тебе повезёт. А я же цаца балованная. Ни при каких обстоятельствах не желаю кофе варить на лучине и справлять нужду под кустом. Но оказалось, ни к чему нельзя заранее подготовиться. Хоть убейся, не угадаешь, что надо делать, и как. Потому что мечты сбываются не для мечтателя, а для того, кем он когда-нибудь станет. И не в том виде, как было задумано, а как захочется левой пятке кого-нибудь из сотрудников Небесной Канцелярии. Но мне-то грех обижаться. Тебя бы я не придумал, сколько бы ни мечтал. А себя вот такого – тем более. Смешная штука моя судьба.
– Моя тоже смешная, – откликается тот, что помельче. – Не представляешь, как я этому рад! – И тут же превращается в нечто вроде нарисованного неумелой детской рукой дракона с осьминожьми щупальцами и как минимум сотней разноцветных сверкающих глаз, разбросанных по всему телу где редко, где густо, как мелкие жёлтые сливы в траве в урожайный год.
* * *
В этот момент на улице Аукштайчю появляются двое – взрослая женщина, одетая для спортивной прогулки, и франтоватый, словно нарядившийся для вечеринки молодой человек. Останавливаются в нескольких метрах от забора, за которым растёт цветущая слива, некоторое время молча смотрят на, прости господи, эльфа и как бы условно дракона, удобно расположившихся на ветвях, наконец переглядываются: «Ты тоже видишь?» – «Ага!» – «Так становятся духовидцами и пророками» – «Сходят с ума» – «Ай, да какая разница, лишь бы не перестали показывать» – «Дорогие галлюцинации, продолжайтесь, пожалуйста! Будьте у нас всегда!» – и дружно хохочут от невозможности ни согласиться с увиденным, ни от него отказаться, да и просто от радости, от которой здесь воздух дрожит.
– Да, вот ровно настолько смешная, спасибо, – невозмутимо говорит крылатый дракон с глазами и щупальцами после того, как случайные свидетели его бытия, то и дело оглядываясь и пихая друг другом локтями: – «Мама, что это было?» – «Не было, а есть, я их ещё вижу» – «Я тоже вижу, а телефон не берёт!» – шатаясь, как пьяные, уходят куда-то в сторону новых прибрежных домов.
– Смешная-то она смешная, а всем остальным всемогущим тоже не помешало бы так влипнуть, – продолжает он, ухватившись за ветку одним из щупалец и раскачиваясь на весеннем ветру. – Потому что только умалив себя до почти отсутствия, способное поместиться в этот ваш хрупкий человеческий мир, получаешь возможность ежедневно осознавать себя не чем-то само собой разумеющимся, а невозможным, немыслимым чудом. Тем, что ты на самом деле и есть!
– «До почти отсутствия»? – с интересом переспрашивает здоровенный. – Это какое же масштабное должно быть присутствие, если «почти отсутствие» выглядит так!
– Да, по здешним меркам я довольно огромный, – скромно соглашается чудо-дракон. – Но разница несущественна. Это, знаешь, как песня остаётся одной и той же вне зависимости от того, под нос ты её напеваешь или во весь голос орёшь.
На какое-то время над цветущим деревом, улицей и текущей мимо рекой воцаряется такая умиротворённая тишина, что в небе появляются антрацитово-чёрные бабочки с размахом крыльев, как у странствующего альбатроса[11 - То есть примерно 3,5 метра] и, покружив над пустынным городом, улетают неизвестно куда. Ну, это как раз нормально, вполне обычное дело, из молчания Нёхиси чего только порой не рождается. Вот и сейчас.
– Интересно, их кто-то ещё увидит? – спрашивает здоровенный, будем считать, что эльф.
– Да запросто. Если уж даже нас увидели. Для тех, кто гуляет по настолько безлюдному городу, ничего невозможного нет.
– Вот это самое невероятное. О таком я даже и не мечтал, когда дурил головы всем, до кого дотягивался, и при этом всегда понимал, до какой степени этого мало – даже не капля в море, а молекула в океане, не о чем говорить. Хорошо же наши горожане устроились! Ничего руками и священными мантрами делать не надо, достаточно просто выйти из дома, и все чудеса мира твои. Причём не только странные зрелища, вроде бабочек, или нас. Такие события происходят! Такие делаются дела! Боюсь, я за все эти годы столько не натворил, сколько с начала весны случилось совершенно самостоятельно, словно иначе и быть не могло. Я видел, как одна девчонка встретилась со своей тайной тенью – здесь совсем рядом, в холмах. Стояли, прижавшись друг к дружке, спина к спине, как положено; чем дело кончилось, я не знаю, ушёл, чтобы им не мешать. И как другая девчонка, обнявшись со старым деревом, за десять минут прожила всю его долгую жизнь, и теперь знает и умеет всё, что умеют старые деревья. В каком-то смысле она и есть старое дерево, хотя с виду по-прежнему человек. И как двое мальчишек гуляли вон по тому холму – один наяву, а второй в это время спал в тысяче километров отсюда, но выглядел настолько вещественным, что даже я не сразу понял, что с ним не так. Интересно, где он в итоге проснулся? Вот смеху будет, если у нас!..
– Это всё-таки вряд ли, – говорит стоглазый дракон, постепенно принимая форму плоского воздушного змея; похоже, он позавидовал бабочкам и теперь тоже хочет летать. – Готов спорить, что его перехватили сотрудники Стефана и отправили просыпаться туда, где он улёгся спать. Они за этим следят очень строго, не потому что такие уж вредные, просто подобные перемещения в человеческом теле лучше не совершать. Оно целиком, понимаешь, не собирается. Совершенно не представляю, какие тут могут быть затруднения, тем не менее, это так.
– Да вредные они! – смеётся условный эльф. – До жути они там все вредные, Стефан команду под себя подбирал. Но может, для дела оно и неплохо. Я же помню, как был человеком. Ужасно хлипкая конструкция, от любой ерунды ломается! Так что начинающих гениев, которые сами не понимают, как у них чего получилось и зачем оно было надо, и правда, лучше превентивно спасать… Но вообще удивительно, что у нас тут творится сейчас! Я же сперва, когда началась эта паника, был уверен, что мир сейчас от избытка страха окончательно и бесповоротно испортится, а вышло вот так.
– Избыток страха ни одной реальности не на пользу, тот ещё яд, – соглашается воздушный змей в форме дракона и взмывает ввысь. Впрочем, тут же возвращается, устраивается поудобнее, обмотав хвостом цветущую ветку, чтобы его невесомое тело ветром не унесло, и рассудительно говорит: – Но иногда, сам знаешь, и от яда бывает польза, если правильно его применять. Вот и сейчас люди попрятались по домам и так заняты своим страхом, что им просто внимания не хватает на весь остальной мир. Не видят его, не слышат, не думают ни о чём, кроме себя, и не мешают проявляться тому, что у них считается невозможным. Не смотрят под руку, я бы сказал. Зато каждый, кто сейчас выходит из дома, сразу оказывается в настолько необычной для себя обстановке, что заранее готов практически ко всему, и оно тут же с превеликим удовольствием происходит – с самим человеком, или хотя бы у него на глазах. В местах вроде нашего города, где чудес и так выше крыши, от людей только это и требуется – им и себе не мешать.
– Интересно, чем это закончится? К чему мы в итоге придём? Что будет? Ты же у нас всеведущий? Значит знаешь наверняка!
– «Что будет?» – вопрос совершенно бессмысленный, если задавать его мне, – смеётся воздушный змей. – С моей точки зрения, ничего никогда не «будет», потому что всё уже есть. Сотворение мира ещё продолжается, он творится в каждый момент. И гибель этого мира даже не то что предрешена, он уже вот прямо сейчас – ежесекундно, всегда – гибнет, продолжая безмятежно твориться, и вместе это создаёт звенящее, ликующее напряжение, которое, собственно, и есть жизнь.
Эдо
апрель 2020 года
Теоретически, он должен был бы сочувствовать горожанам, запуганным новостями об эпидемии: сам долго был человеком Другой Стороны, не понаслышке знал, как силён в них страх, какой беспощадной липкой волной поднимается при малейшей опасности паника, как она заливает всякий ясный, казалось бы, ум. И что всё это происходит не от хорошей жизни, а от нехорошей, страшной, мучительной смерти, которая маячит у всех в перспективе, он тоже прекрасно знал.
Но сочувствия не испытывал, причём именно потому, что сам много лет был настоящим человеком Другой Стороны, без обычных привилегий гостя с изнанки. Никуда не мог отсюда сбежать, даже смутными воспоминаниями о прежней жизни не утешался, не о чем было ему тогда вспоминать. Да и сейчас Эдо вовсе не был уверен, что в случае чего умрёт легко, без страданий и последнего смертного ужаса, положенного уроженцам Другой Стороны. Наоборот, считал, что шансов на это немного: в конце концов, счастливой домашней материи в теле всего-то шестая часть. И думал: если уж даже я – не только видавший виды сегодняшний, но и тот, каким был пару лет назад, – сейчас наплевал бы на меры предосторожности и преспокойно отправился бы гулять, они тем более могут. Психика-то у большинства, по идее, покрепче, чем у нервных гуманитариев с артистическим воображением, вроде меня. На Другой Стороне столько возможностей в любой момент мучительно умереть, что на пару не самых добрых вселенных хватило бы. И как минимум нелогично так паниковать из-за всего-то одной дополнительной, даже если о ней истерически орут из всех утюгов и чайников со свистками. И из чего там нынче ещё орут.
Поэтому никакого сочувствия к перепуганным горожанам он не испытывал. Просто радовался, что они попрятались по домам. Никогда до сих пор не жил в опустевшем городе, и ему неожиданно очень понравилось, хотя мизантропом себя не считал. Он любил находиться в весёлой, пёстрой, многоязычной, бесшабашной виленской толпе, слушать, смотреть, обмениваться репликами с незнакомцами, ловить приветливые взгляды и улыбаться в ответ – не только дома, где это всем с детства знакомая, понятная и доступная форма счастья, но и здесь, на Другой Стороне.
Однако в опустевшем городе Эдо впал в почти неприличный восторг и экстаз. Чувствовал себя богатым наследником, словно горожане ему лично оставили улицы, булыжные тротуары, закрытые бары, крыши, вымытые дождями и всю остальную свою развесёлую жизнь.
Гулял по безлюдному городу, покупал кофе на вынос, пил его на заколоченных ресторанных верандах, на гулких, апокалиптически пустых площадях, в чужих палисадниках, в парках, без публики окончательно ставших похожими на леса. Чувствовал себя героем авангардного кинофильма, чей сценарист забил на сюжет, режиссёр запил в первый же съёмочный день и отдавал бессмысленные команды, зато художник-постановщик и оператор оказались гениями: в жизни ещё не видел настолько красивой весны. Даже дома, на Этой Стороне, где вёсны такие пронзительные, что когда забываешь себя и всё остальное, их почему-то помнишь, думаешь, что приснились, и каждый год мечешься между разными городами и странами в смутной надежде где-то однажды увидеть такое же наяву.
Но весна двадцатого года на Другой Стороне оказалась даже круче домашних. И почти бесконечно длинной, если вести отсчёт, как он всегда вёл, от самых первых подснежников – в этом году они появились ещё в январе. В феврале начали цвести крокусы, в марте, почти на месяц раньше обычного срока жёлтыми кострами запылали форзиции, первая дикая слива расцвела тоже в марте, успела в самый последний день, а в начале апреля над Старым городом уже клубились бело-розовые облака.
Он теперь почти безвылазно сидел на Другой Стороне, домой возвращался только когда того требовали дела. Целыми днями бродил по улицам, окончательно забив даже на подготовку к лекциям, выезжал на чистой импровизации, хотя это, конечно, бардак и позорище, сам понимал. Корректуру книги отправил в издательство вычитанной на три четверти: сколько успел до неудавшейся поездки в Вену, в таком виде им и отдал. Всегда был страшным педантом, воевавшим за каждую свою запятую, а теперь стало всё равно. Ничего не имело значения, кроме пьянящего весеннего воздуха, горького дыма садовых костров, наглой юной травы, вездесущих пролесок, синих, как крошечные Маяки, и того, что мир теперь всегда был зелёный и золотой, зыбкий, текучий, окутанный сияющей паутиной, которая связывает всё со всем. Оказалось, чем меньше людей на улицах, тем явственней проявляются линии мира, не захочешь, а всё равно увидишь, никуда не денешься ты от них.
И вдруг как отрезало. Без единой мало-мальски внятной причины, ни с того, ни с сего. С утра вернулся на Эту Сторону ради очередной лекции, благополучно её прочитал, пообедал с коллегами, зашёл к Тони Куртейну, выпил с ним чаю и по рюмке домашней наливки из лепестков каких-то хитрых сахарных роз, которую сам же из любопытства купил на ярмарке в начале осени, полгода, вечность назад.
То есть он был в превосходном настроении, не особо устал, не напился, и Тони ничего такого на эту тему ему не сказал. Эдо сам удивился, когда внезапно посреди увлекательного разговора осознал, что от одной только мысли о возвращении на Другую Сторону его уносит в чёрную меланхолию, граничащую с физической тошнотой, совершенно необъяснимую, потому что только сегодня утром сидел на пустынном бульваре Вокечю, пил кофе и с удовольствием обещал себе: вот вернусь и сразу завеюсь гулять в холмы.
Его вероятно люто перекосило, потому что Тони Куртейн, увлечённо рассуждавший о сходстве социальных сетей Другой Стороны с короткой эпохой Бесцеремонных Видений в начале Третьей Империи, когда у горожан вошло в моду намеренно сниться другим, включая незаинтересованных в тебе незнакомцев, и люди так осточертели друг другу, что чуть не дошло до гражданской войны, споткнулся на полуслове. Спросил:
– Думаешь, ерунду говорю?
Эдо отрицательно помотал головой, хотя на самом деле именно так и думал. Но с положительной коннотацией. То есть с радостью слушал бы этот безумный гон до завтрашнего утра. Признался:
– Странная, знаешь, штука. Посмотрел на часы, подумал, что пора возвращаться на Другую Сторону, и вдруг такое яростное чувство протеста: «Не хочу! Не пойду!»
– Ну и не ходи, кто тебя заставляет? Или у тебя там дела?
– Да какие дела. Даже поездки мои отменились; формально неизвестно, на сколько, но по ощущению, насовсем. Просто мне нравилось жить на Другой Стороне. Там стало так интересно и странно. Как будто находишься одновременно в трансе, на курорте и в постапокалиптическом фильме; ну, я тебе уже сто раз говорил. И вдруг резко расхотелось туда возвращаться, ни с того ни с сего. Ещё утром всё было нормально. Да лучше, чем просто «нормально», офигенно мне было, даже на полдня оттуда уходить не хотел. Спасся тем, что пообещал себе тебя на десерт.
– Спасибо, – ухмыльнулся Тони Куртейн. – Десертом я ещё никогда не был. Не осознавал себя таковым.
– Ну вот, осознай. Отличный из тебя десерт получился. Заманчивый! Я сразу как миленький на лекцию побежал… Короче. Ещё сегодня утром мне на Другой Стороне было отлично. А теперь натурально чёрной тоской накрывает от мысли, что надо туда идти.
– Так на самом деле не надо. Ты же можешь сколько угодно здесь жить.
– Могу, – без особого энтузиазма согласился Эдо. – Просто понимаешь, это как игрушку отняли. Обидно. И главное, непонятно, почему и зачем. По-хорошему, надо бы мне сейчас пойти на Другую Сторону и проверить, как я там себя буду чувствовать. Может, прекрасно. Может, меня просто так перемкнуло? Ну мало ли. Имею полное право на любые заскоки, я богема и псих. Но при мысли, что надо туда пойти, мне становится тошно. И это не настолько метафора, как мне бы хотелось. По-настоящему начинает тошнить.
– Похоже, ты там всё-таки отравился, – мрачно резюмировал Тони Куртейн.
– Отравился?! Чем?
– Да тамошним страхом, как многие наши травятся.
– Многие травятся страхом на Другой Стороне?
– Ну да. Не до смерти, конечно, а как паршивой дешёвой выпивкой. Слегка. Самые распространённые симптомы – тошнота и тоска, иногда такая невыносимая, что здоровые мужики начинают рыдать. Ну, это, в общем, естественно. Следовало ожидать. Когда почти полмиллиона человек на сравнительно небольшой территории так сильно боятся одного и того же, это, как ни крути, портит воздух. А мы в среднем гораздо чувствительней, чем люди Другой Стороны.
– Фигассе, что творится. И главное, мне ни слова!