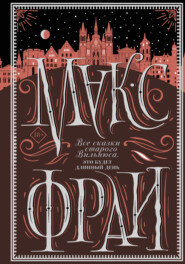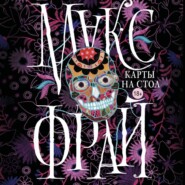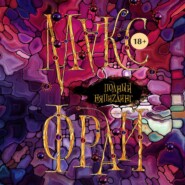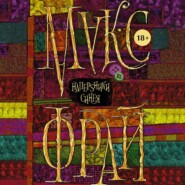По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тяжелый свет Куртейна. Синий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Посмотрев под ноги, Тони видит лоскутное одеяло тротуара: гладкий асфальт соседствует здесь с узкой полосой, вымощенной очень мелкими камешками, похожими на гранитные детские кубики, чуть в стороне ровный прямоугольник аккуратных булыжников, отполированных то ли временем, то ли просто специальной шлифовальной машиной, черт их разберет, все-таки слишком темно. Ближайший фонарь на углу, поэтому хочешь не хочешь, а придется одержать две победы над инерцией кряду, то есть сперва тронуться с места и дойти до угла, а там – остановиться и снова оглядеться. Может, прояснится хоть что-нибудь.
Не зря старался: на перекрестке возле фонаря стоит указатель с названиями улиц, он достаточно хорошо освещен, чтобы прочитать надписи. На одной стрелке написано «K?penicker Allee», на другой – «Rheinsteinstra?e»; значит, язык немецкий, вроде, больше ни у кого нет такой специальной буквы для удвоенной «s» – «?». Хорошо бы запомнить адрес; нет, не «хорошо бы», а обязательно надо запомнить, кровь из носа, и выкручивайся как хочешь, дорогой друг.
В этот момент Тони чувствует горячее дыхание в районе правого уха и слышит сочувственный шепот: «Кофе в такие моменты варить все-таки не стоит. Сбежал он у тебя к чертям». Тут надо бы собраться с силами, сконцентрироваться и ответить: «А ты-то куда смотрел той дополнительной задницей, которая у тебя зачем-то растет на шее?» – но ладно, собачиться будем потом, дело прежде всего, поэтому он говорит, выталкивая слова не горлом, языком и губами наружу, а исключительно волей куда-то внутрь, в горячую темноту в глубине живота: «Кепеникер аллее, угол Рейнштейнштрассе, запомни, пожалуйста, я только что на указателе прочитал».
Усилием воли – на самом-то деле понятно, что все, то есть вообще все на свете делается исключительно усилием воли, понуждающей к действию мышцы, разум, внимание, чувства, и какие там инструменты у нас еще есть, просто в некоторых случаях эти волевые усилия, скажем так, избыточно ощутимы – в общем, усилием воли Тони решительно отодвигает в сторону уже почти вставшую перед глазами картину, полутемную кухню, освещенную всего двумя небольшими лампами над мойкой и над плитой, светлые стены, потолок, раскрашенный под звездное небо, стол, заставленный стопками чистых мисок и чашек, которые, кстати, надо бы не забыть потом раскидать по шкафам, букет увядающих подсолнухов на подоконнике, широченную спину Юргиса, склонившегося над плитой, и его страшно довольную по сути, но чрезвычайно ехидную по форме ухмылку, каким-то непостижимым образом заметную даже со спины.
В общем, эту картину Тони отодвигает подальше, чтобы не вздумала окончательно воплотиться, оглядывается по сторонам, от избытка чувств торжествующе потрясает обоими кулаками: да, детка, да! Вокруг снова темная улица, двухэтажный дом, окруженный низким зеленым забором, белолунный свет фонаря, указатель – две стрелки «K?penicker Allee», «Rheinsteinstra?e», вот так-то лучше, всем стоять-бояться, от меня не уйдешь, ай да я.
Тони разворачивается и идет по улице Рейнштейнштрассе, медленно, стараясь быть только здесь, присутствовать полностью, а значит – видеть фонари, деревья, заборы, белеющие в темноте розы, автомобили, припаркованные вдоль мостовой, слышать тихий шум ветра в верхушках деревьев, подошвами ощущать границу между ровным заасфальтированным тротуаром и булыжной заплатой, отливающей в желтом фонарном свете легендарным золотом Рейна, вдыхать ароматный ночной воздух, осязать первые редкие капли дождя. Тони идет осторожно, вдумчиво, как начинающий канатоходец по толстому тросу, натянутому в полутора метрах от земли. Думает: я здесь; неважно, где именно, потом разберемся, главное, у меня получается, ну я даю, – и торжествующе улыбается, потому что в небе над пока неопознанным городом уже разгорается восхитительный, невыносимый, яркий, холодный синий невидимый свет маяка. Сияет черт знает где, протащенный контрабандой, но и дома при этом не гаснет. А то бы Юргис мигом вернул меня назад, – думает Тони. Но тут же решительно прогоняет из головы мысли про дом и Юргиса, не надо сейчас об этом думать, слишком легко туда вернуться, слишком трудно продолжать оставаться здесь.
– Два часа сорок шесть минут, – говорит Тони, раскачиваясь на табурете. И повторяет, невольно схватившись за ставшую неожиданно легкой и звонкой голову: – Два часа сорок шесть минут, абсолютный рекорд. А тут что я все это время делал?
– В основном бродил по дому, – отвечает друг Юргис. Впрочем, сейчас он не Юргис, а Иоганн-Георг; с прошлой осени требует называть его этим именем, говорит, хорошо пока с ним живется. И не дай бог ошибешься, устроит такую бурю, что реки выйдут из берегов.
– Ходил с таким, знаешь, специальным умным лицом, как будто изобретаешь что-то вроде вечного двигателя, или сочиняешь стихи, – продолжает рассказывать Юргис. – Но в какой-то момент, похоже, получил просветление и внезапно сложил в шкаф посуду. Причем сперва почему-то в одежный, по такому случаю не поленился таскать ее в коридор. Я смотрел и не вмешивался. Упаси меня боже вдохновенному гению хозяйственные советы давать. Но ты сам потом походил, подумал, получил еще одно просветление и все переставил в буфет. На мой умеренно компетентный взгляд, именно туда, где положено находиться посуде, но лучше потом сам проверь.
– И маяк, как я понимаю, все это время горел?
– Естественно, он горел. Причем даже ярче, чем прежде. А то хрен бы тебе приятный туристический променад, мое слово твердо, вернул бы к суровой реальности, ни единой покаянной слезы не пролив. Я все время втыкал в окно, не переживай. Было довольно скучно. С горя нагуглил этот твой интересный адрес. Улицы с такими или созвучными – я же не знаю, как они правильно пишутся, – названиями есть в разных немецких городах. Но пересекаются они только в Берлине.
– В Берлине? – недоверчиво переспрашивает Тони. – Ну надо же. А с виду какой-то поселок.
– Судя по карте, которой я любовался долго и счастливо, это окраина, удачно избежавшая многоэтажной застройки[2 - Действительно, окраина Восточного Берлина, район Карлсхорст.]. Такие есть во всех больших городах.
– Ты прав. Ладно. Значит, Берлин. В прошлый раз был Краков, в позапрошлый – Сувалки[3 - Сувалки – город в Польше, вблизи от польско-литовской границы.], перед ним – какой-то неопознанный город между рекой и горой, я был там всего пару минут и вообще ни черта не понял… Черт знает что. В смысле никакой логики. Интересно, откуда взялся такой набор? Что влияет на выбор места? Хорошо бы, конечно, контролировать направление перемещений; с другой стороны, я же и сам не знаю, где надо светить. И никто не знает. Ладно, может, еще разберусь…
Тони встает с табурета и тут же хлопается обратно.
– Ни хрена себе штивает. Вот это номер.
– Ну слушай, чего ты хочешь. Почти три часа в двух местах сразу, не хрен собачий, – рассудительно говорит Юргис. – Потом пройдет. Выпить хочешь?
– Да не то чтобы, честно говоря. Но, по идее, не помешает. Мне с этим хрен знает что вытворяющим организмом потом еще вместе в темной комнате спать. И выдай мне сигарету. Лучший в мире способ быстро целиком оказаться здесь и сейчас.
– Есть такое дело.
Юргис возится с бутылками и стаканами гораздо дольше, чем надо; скорее всего, просто для удовольствия. Смешная правда про Юргиса: он любит хозяйничать в чужих кухнях, но пальцем о палец не ударит в своей. Максимум – сварит кофе, а потом будет неделю ждать, что джезва как-нибудь сама магическим образом помоется; причем иногда этот номер у него даже проходит. Но, к сожалению, не всегда.
– Вот, – наконец говорит он, ставя перед Тони стакан с прозрачной жидкостью. – Решил ничего ни с чем не смешивать, просто налил нам рому. В некоторых особых случаях чем проще, тем лучше. Например, когда у тебя в руках оказался Карукера агриколь[4 - Ром агриколь (agricole, т. е. «сельскохозяйственный») отличается от обычного рома способом производства, делается из свежевыжатого сока сахарного тростника, производится обычно небольшими партиями, поэтому встречается реже и стоит дороже.] из редкого барбадосского сахарного тростника.
– Кару… – что?
– Карукера. Остров прекрасных вод. Так раньше называлась страна Гваделупа. Лично я бы на ее месте до сих пор так назывался, с новым именем у нее, по-моему, как-то не очень задалось. Но вряд ли это дурно повлияло на вкус напитка. Агриколь есть агриколь.
– Где ты это сокровище взял? Сколько караванов ограбил? Сколько купцов перебил? У меня в закромах ничего подобного не было.
– Правильно. Зато у тебя был обычный светлый бакарди. А в моих руках многие стараются показать себя с лучшей стороны. Хотят мне понравиться. И твой ром туда же, хотя, по идее, суровое пиратское пойло с крепкими нервами, что ему какой-то там я.
– Ты его превратил?!
– Да упаси боже. Я не умею. Он сам.
– Господи, – говорит Тони после первого глотка. И повторяет: – Господи.
– Невзирая на ряд моих несомненных достоинств, я – совершенно точно не он.
– Ты даже вне подозрений. Это было не адресное обращение, а просто мини-рецензия выдающегося эксперта в области спонтанного домашнего пьянства для развлекательного журнала «Ночной сомелье».
– А. То есть тебе понравилось, – флегматично кивает Юргис. – Ну и хорошо, – и помолчав добавляет: – Ты завязывай, пожалуйста, мысленно называть меня старым именем. Понимаю, сила привычки. Ну и вообще в своей голове каждый сам хозяин. Но ради меня, пожалуйста, постарайся. Мне и так непросто живется. Что-то я в последнее время какой-то… чересчур человек.
Самое время огрызнуться: «Это тебе только кажется», – но есть вещи, с которыми лучше не шутить. В их число входят абсолютно все темы, при упоминании которых у собеседника, кем бы он ни был, каменеет зачем-то оставленная на лице улыбка и темнеют глаза.
Поэтому Тони говорит:
– Извини. Постараюсь больше так о тебе не думать. Я не знал, что имена на тебя влияют, даже если просто крутятся в чужой голове.
– Я и сам не знал, пока не почувствовал. Ничего, уже все в порядке. Наверное. Скоро будет в порядке; в общем, забудь. Оштрафую тебя на дополнительную порцию перебродившего сока барбадосского сахарного тростника, и тогда-то уж точно сразу приду в порядок. Я, ты знаешь, практичный и экономный. Не допущу, чтобы зря перевелся драгоценный продукт, а значит извлеку из него пользу, чего бы это ни стоило – и мне, и ему.
– Разумный подход, – кивает Тони. – Надо брать с тебя пример. Эй, драгоценный ром агриколь, а ну быстро давай, иди мне впрок!
Встает, подходит к окну, некоторое время стоит, опираясь на подоконник, смотрит на далекие огни за рекой. Наконец говорит:
– Ладно, по крайней мере, с нашим маяком действительно все в порядке. И голова у меня молодец, ясная и больше не кружится. Ноги могли бы стоять и потверже, но не буду к ним придираться. Носят как-то пока, и на том спасибо. Сам понимаю, им со мной нелегко.
– Интересно, а как твой двойник там, на маяке, сейчас себя чувствует? – спрашивает друг, которого теперь надо даже мысленно называть Иоганном-Георгом, но ум наотрез отказывается мыслить такими нелепыми конструкциями; ладно, пусть пока будет просто нейтральный «он», а там поглядим, – думает Тони, – или я привыкну, или привыкать не придется. Он часто меняет имена.
А вслух отвечает:
– Да примерно так же, как я: чертовски доволен собой, устал, возбужден и горд. И по-прежнему в полном отчаянии, потому что мы делаем невозможное, а толку от этого невозможного… Ладно, не стану говорить «ноль». Я просто не знаю. И он не знает. Но готов продолжать; скажем так, не готов останавливаться. Ну и я с ним за компанию не готов, а куда деваться.
– Хоть кто-нибудь там догадался срочно налить ему хорошего рому?
– Надеюсь, что так.
– «Надеешься»? Точно не знаешь?
– Конечно, не знаю. Это же только у него две жизни сразу – и собственная, и моя. А я разделяю с ним самые сильные чувства, особо страстные желания и некоторые сны; кажется, настроение у нас всегда более-менее общее, но на этом – все. Раньше я думал, круто чувак устроился: мало того, что у самого жизнь интересная, так еще и моих приключений себе полные карманы нахапал. Но знаешь, после этих прогулок, начинаю склоняться к мысли, что мне повезло гораздо больше, чем ему. Две жизни одновременно это только звучит замечательно, а на практике означает – почти ни одной. Я же до сих пор толком не помню, как ходил по дому, убирал в шкаф чашки, и все остальное. Только как ты мне про сбежавший кофе говорил; причем пока тебя слушал, почти не видел, что в Берлине творится. То есть, получается, ты или там, или там. Может, конечно, мне просто навыка не хватает. Тот, другой Тони уже двадцать с лишним лет Смотритель маяка. А я о нем даже не подозревал до недавнего времени – ну, то есть пока с тобой не связался. Стефан говорит, это вообще нормально. В смысле обычное дело. На нашей стороне Смотрителям маяков и не положено ничего такого о себе знать.
– Да, считается, что нормально, – соглашается Юр… так, стоп, он же просил, Иоганн-Георг. И сердито добавляет: – Только меня такая норма совершенно не устраивает. Быть частью одного из величайших чудес Вселенной и все при этом профукать? Самый драгоценный на свете опыт так никогда и не осознать? Немыслимая растрата. Я не согласен, чтобы было так.
Глаза его вспыхивают яростным изумрудно-зеленым огнем, и это до такой степени не метафора, что стороннему наблюдателю впору обосраться на месте. Но Тони-то не сторонний. Он в курсе, что пламенеющие глаза – просто эффектный фокус, позволяющий впечатлить аудиторию и заодно избавиться от избытка эмоций, чтобы не мешали жить долго и счастливо, никого под горячую руку не зашибив. Иоганн-Георг совсем недавно этому фокусу выучился и теперь, конечно, показывает его по любому мало-мальски подходящему поводу. А иногда – без.
Тони Куртейн
Тони Куртейн сидит за столом, положив голову на руки; со стороны может показаться, что он задремал. На самом деле Тони смеется – тихо, почти беззвучно, хотя мог бы хохотать в голос, рычать и вопить дикой лендрой, на маяке он один, как обычно, никому бы не помешал.
Я молодец, – думает Тони, – на этот раз правда здорово получилось. По идее, с таким помощником иначе и быть не могло; я еще и потому молодец, что он у меня есть. И не просто так, по доброте помогает, у него в этом деле явно свой интерес. Хотел бы я знать, какой именно; ладно, может, однажды расскажет. А пока пусть просто будет рядом и продолжает хотеть, чтобы у нас все получилось. Он так круто хочет, что силы от этого даже не удваиваются – удесятеряются. Еще никому, никогда так не везло.