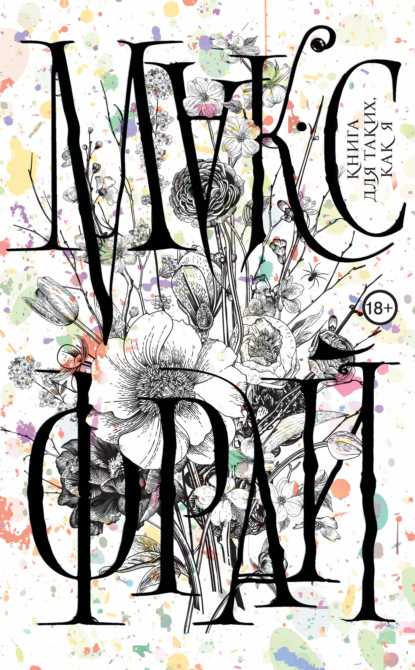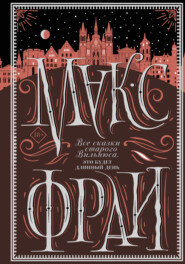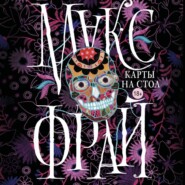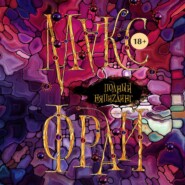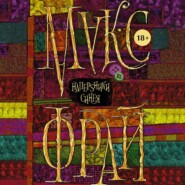По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга для таких, как я
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поэтому и писать о Швейке следует исключительно глупости. Хорош бы я был, если бы попытался с умной рожей лепить какие-нибудь серьезные телеги о бравом солдате Швейке – вот это, я понимаю, смертный грех… К счастью, я простудился на майском ветру и у меня здорово поднялась температура, что в данном случае тождественно вдохновению. А посему начинаю добросовестно бредить.
История похождений бравого солдата Швейка причудливым образом переплетается с другой историей (давно, впрочем, ставшей мифом). Я имею в виду историю светлого аса Бальдра, сына Одина и Фригг. Бальдра мучили дурные сны и мрачные предчувствия. Любящая мать Фригг решила не пускать дело на самотек и «взяла клятву со всех вещей в мире», что они никогда не причинят вреда ее сыну Бальдру, – сюжет сам по себе известный и весьма популярный. Но скандинавские боги – народ особый. Узнав, что Бальдр стал неуязвимым, ребята тут же оттянулись по полной программе: принялись метать в Бальдра копья и камни, от души забавляясь и восторгаясь тем фактом, что их удары не наносят парню ни малейшего телесного огорчения. Сам Бальдр, очевидно, тоже получал от этого море удовольствия: он же у них не мальчиком для битья был, а вроде как чуть ли не «первым среди равных», всеобщим любимцем и «лучом света в темном царстве».
То, что бывший солдат Ярослав Гашек проделывает со своим героем Йозефом Швейком, очень напоминает забавы весельчаков асов. Каких только «копий» и «камней» не метнул он в бравого солдата Швейка на протяжении длиннющей саги о его похождениях! История с Бальдром, как известно, закончилась плачевно: рассеянная Фригг забыла заключить типовой договор с побегом омелы; профессиональный злодей Локи вовремя подсуетился; недрогнувшая рука слепого Хеда метнула злополучный побег – летальный исход был неизбежен. Мало потом никому не показалось, но это уже совсем другая история…
Швейк, в отличие от Бальдра, оказался феноменально неуязвимой мишенью. Главные герои романов вообще имеют неоспоримое преимущество перед героями мифов: там, где вторых зачастую подстерегает смерть, первым грозит разве что «саечка за испуг». Бравый солдат Швейк не пострадал ни от одного из авторских «копий». Он пережил не только многочисленных сотоварищей по роману, но и собственного автора. Бравый солдат Ярослав Гашек вернулся из окопов Первой мировой войны, чтобы написать роман о бравом солдате Швейке; Швейк оказался отменно живуч… в отличие от самого Гашека. Иногда мне кажется, что автору пришлось умереть ВМЕСТО своего героя. «Смерть, наступившая 3 января 1923 года, заставила его умолкнуть навсегда и помешала закончить один из самых прославленных и наиболее читаемых романов, созданных после Первой мировой войны», – так написано в самом конце книги, которая могла бы стать почти бесконечной (как Вселенная, в бесконечности которой не был до конца уверен Эйнштейн), но оборвавшейся чуть ли не на полуслове. Моя улыбка медленно сползает с лица, в то время как бравый фельдкурат Кац ломится в трамвай с походным алтарем, бабка Пейзлерка призывает на помощь Пресвятую Богородицу и Марию Скочицкую, а поручик Лукаш задушевно подтягивает:
А как ноченька пришла,
Овес вылез из мешка,
Тумтария бум!
1999 г.
Любовь и смерть в одном флаконе
Ваш маленький Артур вспоминает вас сегодня на небе и виляет хвостом.
У меня, можно сказать, детство на кладбище прошло – повезло, ага? Нет, родиться внуком кладбищенского сторожа меня не угораздило, просто сложилось так, что мои многочисленные покойные предки были равномерно распределены по всем кладбищам города, а родители считали своим гражданским долгом поддерживать в порядке «фамильные склепы». Поэтому в теплое время года они чуть ли не каждый уик-энд предпринимали путешествие к очередному месту захоронения. Сажали и поливали маргаритки, подрезали розовые кусты, красили ограды – вы просто не представляете, сколько существует способов с пользой провести время на кладбище! Меня они почему-то брали с собой. Чтобы ребенок на свежем воздухе порезвился – так, что ли? Впрочем, резвиться-то мне как раз и не давали: ни бегать, ни петь, ни свистеть на кладбище не разрешалось. Считается, что это неприлично. Зато можно было медленно бродить по кладбищенским аллеям и читать имена людей, умерших, как правило, еще до моего рождения.
С тех пор смерть кажется мне невероятно скучным мероприятием, чем-то вроде комсомольского собрания. И ужасно хочется прыгать, петь, свистеть и вообще всячески бузить на кладбищах: искушение нарушить запреты, заложенные в детстве, – одно из тех, устоять перед которыми просто невозможно!
– Деннис, а что значит «веселотворных много дней»?
– Никогда не задумывался. Наверно, что-нибудь вроде того, как бывает под Новый год в Шотландии.
– А что бывает?
– Блюют на мостовой в Глазго.
– А-а…
«Незабвенная» Ивлина Во – это тоже своего рода «буза» на кладбище. Не зловещая «пляска на костях», а сплошной «бег, пение и свист». Возможно, самая смешная книга о смерти – вернее, не столько о смерти, сколько о похоронах… и не столько о похоронах, сколько о человеческой глупости, на фоне которой даже таинство смерти превращается в сплошные «пустые хлопоты». Опять о глупости? Ну да, а чего вы хотите?! Вечная тема, черт побери.
В мире конкуренции твой лицевой счет зависит от того, не ударишь ли ты в грязь лицом. А это, в свою очередь, зависит от репутации – от твоего лица, как выражаются на Востоке. Потеряй лицо – и ты все потеряешь. Фрэнк потерял лицо. Этим все сказано.
Коль скоро уж речь зашла о человеческой глупости, грех не вспомнить о «лузерах» и «винерах», благо автору «Незабвенной» удалось бульдозером проехаться по этой (еще одной «вечной») теме. Кажется, человечество усвоило эти два понятия еще до того, как научилось ловко управляться с палками-копалками. В любой стае крупных приматов имелись свои «лузеры» и «винеры», зуб даю! Уверен также, что эмоций по этому поводу в те прасказочные и продарвинские времена было ничуть не меньше, чем теперь, когда крупные приматы носят штаны и ботинки и курят сигареты «Парламент», чтобы избавиться от сопутствующих стрессов.
Освежающий сарказм Ивлина Во пришелся как нельзя более кстати. В его интерпретации рухнувшая карьера, бедность и даже несчастная любовь не имеют решительно никакого значения. Важно другое – кто ты: работник похоронного бюро или его клиент. Третьего в пространстве «Незабвенной», кажется, попросту не дано. На фоне кладбищенских аллей, урн с прахом и погребальных контор становится очевидно: настоящее лузерство – это быть клиентом похоронного бюро, какие бы роскошные похороны вам ни устроили.
Деннис Барлоу, поэт и «собачий похоронщик», в этой системе координат абсолютный победитель. Он – по ту сторону конторки похоронного бюро. Парень работает на смерть, ему плевать на всяческую суету сует, ему неведомо «томление духа». В его руках – антология поэзии, в его рабочем холодильнике рядом с трупом сиамской кошки стоит тарелка с бутербродами – вот вам рецепт душевного покоя по Ивлину Во (автор откровенно издевается и над своими героями, и над Его Величеством читателем, но его рецепт душевного покоя, как ни странно, куда честнее и убедительнее большинства прочих).
Трагикомичная история любви поэта Денниса – изумительная пародия на все истории любви, описанные в мировой литературе. Под раздачу попали все «певцы любви» – от Данте, Петрарки и Шекспира до пробела, который каждый может заполнить по вкусу. Его возлюбленная Эме, мисс Танатогенос (скудная меблировка ее интеллекта, о которую обдирал себе коленки пришелец из Европы, была приобретена в местной школе и университете), выписана автором с особым, нежнейшим сарказмом и заботливо умерщвлена в назидание прочим неуравновешенным Джульеттам.
Завтра и в каждую годовщину смерти, до тех пор, пока будут существовать «Угодья лучшего мира», мистер Джойбой будет получать почтовую карточку: «Твоя маленькая Эме виляет сегодня хвостиком на небесах, вспоминая о тебе».
Ну да, а как вы хотели? Все умерли, вернее, умерла только Эме Танатогенос, и еще – любимый попугай ее ухажера, гения бальзамировки мистера Джойбоя. Оба – и Эме, и попугай – завершили свой земной путь в газовой печи «Угодьев лучшего мира», а поэт Деннис нашел самый изящный способ навсегда отравить существование бывшему сопернику. Финал «Незабвенной» – настоящая кульминация восхитительного авторского цинизма, оценить который не смогут разве что те самые три процента населения, которые, согласно результатам социологического опроса, проведенного фондом «Русский проект», боятся смерти куда больше, чем роста цен…
1999 г.
Сияющий
(Безбашенные диалоги о Стивене Кинге)
Мой лучший друг заявился в гости и тут же устроился поближе к телевизору: смотрит «Сияние» – не кубриковское с Николсоном, а новый фильм, снятый под бдительным авторским присмотром самого Стивена Кинга. Я брожу из угла в угол, тихо порыкивая на мебель: мне вроде как надо эссе писать, а в голове ни одной путной мысли, да еще видик орет голосом Джека Торранса, и конца этому не видно: три серии, мать их… поубивал бы всех! И вообще, что за дурацкий способ провести одну из самых теплых майских ночей я изыскал на свою голову?!
– Ты чего мечешься, как тигра в клетке? – наконец спрашивает мой невольный мучитель.
– Мне писать надо, – мрачно сообщаю я.
– Ну так пиши! – великодушно соглашается он.
Думаете, я его убил? Вообще-то к тому шло, но я взял себя в руки. Ограничился взглядом – впрочем весьма многообещающим.
– А вот возьми и напиши про Кинга, – жизнерадостно предлагает друг. Да вот хотя бы про «Сияние». Хорошая ведь вещь.
– Напишу, – угрюмо соглашаюсь я. – Не сегодня, но когда-нибудь напишу. Только не про «Сияние». Может быть, про «Зеленую милю». А про «Сияние» ничего интересного не напишешь…
– Ну, не скажи, – оживляется он. – Интересно можно написать о чем угодно, а уж о Кинге… Ты можешь заявить, к примеру, что «Сияние» – это одна из множества книг о человеке, который не сумел распорядиться своим одиночеством… ну, навешаешь еще какой-нибудь мокрой лапши вперемешку с цитатами.
– Ха! – отмахиваюсь я. – Хорошо же ты обо мне думаешь…
– Или о том, что внешний враг всегда является лишь проекцией вовне врага внутреннего, – невозмутимо продолжает он, – помнишь интерпретацию мантрического значения перевернутой руны Mannaz по Блюму?
– Угу. И еще о том, что «сон разума порождает чудовищ» – эпиграф к роману, кстати. Но подобную спекуляцию можно присобачить почти к любой книге, – отмахиваюсь я. – И уж точно к любой книге Кинга. Это же его главная фишка, наряду с эксплуатацией потаенных, глубинных страхов… Ну, положим, я разведу эту бодягу о «внутреннем» и «внешнем» враге, а толку-то?! Если уж писать о «Сиянии»… Знаешь, мне кажется, было бы интересно описать эту историю с точки зрения отеля. Понимаешь, если рассматривать ситуацию с позиции человека, то «Оверлук» – очень плохое место, однозначно! Но возможно, для самого отеля это драматическая история любви? Отель встретил человека, Джека Торранса, и человек понравился отелю. «Оверлук» захотел очаровать Торранса, оставить его при себе, и поначалу все было хорошо… Слушай, а ведь отель вел себя очень по-женски: он ревновал, внушал бедняге Джеку, что жена и ребенок – его злейшие враги… подпаивал его даже. Сладкими обещаниями манил, интриговал, кружил голову. Некоторые женщины именно так и поступают, один из классических случаев! Но ничего не вышло. Считается, что у «Сияния» как бы «счастливый конец»: женщина и ребенок благополучно спаслись, сам Торранс хоть и погиб, но, так сказать, «освободившись от зла». А ведь с точки зрения самого «Оверлука» – это чудовищная драма! Просто «Ромео и Джульетта»: они любили друг друга, но не могли быть вместе и умерли в один день – отель-то ведь взорвался…
– Ладно, допустим, – спокойно соглашается он, в очередной раз нажимая на кнопку «пауза» (бедняга Торранс, судорожно дернувшись, снова замирает над своей пишущей машинкой). – А вот еще: тебе не приходило в голову, что Джек Торранс мог бы провести зиму в «Оверлуке» совсем иначе? Я имею в виду вот что: человек получил в свое распоряжение огромный, прекрасный дом со всеми удобствами. Он мог бы просто расслабиться, прогуливаться только по самым светлым комнатам, смотреть в окна, любоваться пейзажем, писать свою хренову пьесу, в конце концов… Но он сразу же сосредоточился на подвале. Неплохая метафора, ес? И чем он там занимался? Рылся в старых газетных вырезках, раскапывал всякие поганые подробности о прошлом отеля. В конце концов Джек с головой ушел в прошлое – не удивительно, что он его разбудил. У читателя может создаться впечатление, что трагедия с самого начала была неизбежна – а ни фига подобного!
– Не буди лихо, пока оно спит, – так, что ли? – устало улыбаюсь я.
– Не все так просто. Иногда это самое «лихо» надо уметь убаюкать! – торжественно говорит он. – И всегда следует помнить, что лучше не залезать в подвалы… по крайней мере, без особой нужды. Да и на самый верх, на крышу, лучше не лезть без хорошей подготовки: там всегда может обнаружиться осиное гнездо. Дурной знак!
– Но если уж ты решил лезть в подвал или на крышу, ни в коем случае нельзя брать заложников! – говорю я.
– Каких «заложников»? – Теперь он адресует мне вопросительный взгляд.
– Никаких! – твердо заявляю я. – Если уж тебе взбрело в голову будить очередное «лихо», которому лучше бы продолжать дрыхнуть, – на здоровье. В конце концов, любой человек волен делать со своей жизнью все, что сочтет нужным. Но это не значит, что он имеет право превращать в ад еще чью-то жизнь, – это уже нечестно. А Торранс жил в «Оверлуке» не один, а с семьей. Его жену и сына не интересовали подвалы «Оверлука». У них были другие планы.
– У них были планы остаться в живых, – хмыкает мой друг.
– Ну да. И они оказались удачливее.
Какое-то время мы печально молчим. Отдаем дань памяти Джека Торранса так, что ли?
– Вот! – внезапно восклицает мой друг. – Вот в чем дело! Они, Венди и Дэнни, действительно все время были рядом с Джеком, но они не были ВМЕСТЕ с ним, понимаешь? Если бы они все вместе полезли в подвал, если бы они вместе уничтожали осиное гнездо, если бы они вместе поддались темному очарованию отеля или вместе решили сбежать, все было бы иначе. Ты говоришь – нельзя «брать заложников». А может быть, нельзя становиться заложниками?
– Значит, надо быть соучастниками, – киваю я. – А если ты не соучастник – беги на край света, пока тебя не взяли в заложники!
– Получается, я с самого начала был прав, и «Сияние» – просто очередная история о человеческом одиночестве! – торжествующе заключает мой друг. – Нет одиночества более пронзительного, чем одиночество террориста, запертого в одной комнате с заложниками, уж поверь мне на слово!
История похождений бравого солдата Швейка причудливым образом переплетается с другой историей (давно, впрочем, ставшей мифом). Я имею в виду историю светлого аса Бальдра, сына Одина и Фригг. Бальдра мучили дурные сны и мрачные предчувствия. Любящая мать Фригг решила не пускать дело на самотек и «взяла клятву со всех вещей в мире», что они никогда не причинят вреда ее сыну Бальдру, – сюжет сам по себе известный и весьма популярный. Но скандинавские боги – народ особый. Узнав, что Бальдр стал неуязвимым, ребята тут же оттянулись по полной программе: принялись метать в Бальдра копья и камни, от души забавляясь и восторгаясь тем фактом, что их удары не наносят парню ни малейшего телесного огорчения. Сам Бальдр, очевидно, тоже получал от этого море удовольствия: он же у них не мальчиком для битья был, а вроде как чуть ли не «первым среди равных», всеобщим любимцем и «лучом света в темном царстве».
То, что бывший солдат Ярослав Гашек проделывает со своим героем Йозефом Швейком, очень напоминает забавы весельчаков асов. Каких только «копий» и «камней» не метнул он в бравого солдата Швейка на протяжении длиннющей саги о его похождениях! История с Бальдром, как известно, закончилась плачевно: рассеянная Фригг забыла заключить типовой договор с побегом омелы; профессиональный злодей Локи вовремя подсуетился; недрогнувшая рука слепого Хеда метнула злополучный побег – летальный исход был неизбежен. Мало потом никому не показалось, но это уже совсем другая история…
Швейк, в отличие от Бальдра, оказался феноменально неуязвимой мишенью. Главные герои романов вообще имеют неоспоримое преимущество перед героями мифов: там, где вторых зачастую подстерегает смерть, первым грозит разве что «саечка за испуг». Бравый солдат Швейк не пострадал ни от одного из авторских «копий». Он пережил не только многочисленных сотоварищей по роману, но и собственного автора. Бравый солдат Ярослав Гашек вернулся из окопов Первой мировой войны, чтобы написать роман о бравом солдате Швейке; Швейк оказался отменно живуч… в отличие от самого Гашека. Иногда мне кажется, что автору пришлось умереть ВМЕСТО своего героя. «Смерть, наступившая 3 января 1923 года, заставила его умолкнуть навсегда и помешала закончить один из самых прославленных и наиболее читаемых романов, созданных после Первой мировой войны», – так написано в самом конце книги, которая могла бы стать почти бесконечной (как Вселенная, в бесконечности которой не был до конца уверен Эйнштейн), но оборвавшейся чуть ли не на полуслове. Моя улыбка медленно сползает с лица, в то время как бравый фельдкурат Кац ломится в трамвай с походным алтарем, бабка Пейзлерка призывает на помощь Пресвятую Богородицу и Марию Скочицкую, а поручик Лукаш задушевно подтягивает:
А как ноченька пришла,
Овес вылез из мешка,
Тумтария бум!
1999 г.
Любовь и смерть в одном флаконе
Ваш маленький Артур вспоминает вас сегодня на небе и виляет хвостом.
У меня, можно сказать, детство на кладбище прошло – повезло, ага? Нет, родиться внуком кладбищенского сторожа меня не угораздило, просто сложилось так, что мои многочисленные покойные предки были равномерно распределены по всем кладбищам города, а родители считали своим гражданским долгом поддерживать в порядке «фамильные склепы». Поэтому в теплое время года они чуть ли не каждый уик-энд предпринимали путешествие к очередному месту захоронения. Сажали и поливали маргаритки, подрезали розовые кусты, красили ограды – вы просто не представляете, сколько существует способов с пользой провести время на кладбище! Меня они почему-то брали с собой. Чтобы ребенок на свежем воздухе порезвился – так, что ли? Впрочем, резвиться-то мне как раз и не давали: ни бегать, ни петь, ни свистеть на кладбище не разрешалось. Считается, что это неприлично. Зато можно было медленно бродить по кладбищенским аллеям и читать имена людей, умерших, как правило, еще до моего рождения.
С тех пор смерть кажется мне невероятно скучным мероприятием, чем-то вроде комсомольского собрания. И ужасно хочется прыгать, петь, свистеть и вообще всячески бузить на кладбищах: искушение нарушить запреты, заложенные в детстве, – одно из тех, устоять перед которыми просто невозможно!
– Деннис, а что значит «веселотворных много дней»?
– Никогда не задумывался. Наверно, что-нибудь вроде того, как бывает под Новый год в Шотландии.
– А что бывает?
– Блюют на мостовой в Глазго.
– А-а…
«Незабвенная» Ивлина Во – это тоже своего рода «буза» на кладбище. Не зловещая «пляска на костях», а сплошной «бег, пение и свист». Возможно, самая смешная книга о смерти – вернее, не столько о смерти, сколько о похоронах… и не столько о похоронах, сколько о человеческой глупости, на фоне которой даже таинство смерти превращается в сплошные «пустые хлопоты». Опять о глупости? Ну да, а чего вы хотите?! Вечная тема, черт побери.
В мире конкуренции твой лицевой счет зависит от того, не ударишь ли ты в грязь лицом. А это, в свою очередь, зависит от репутации – от твоего лица, как выражаются на Востоке. Потеряй лицо – и ты все потеряешь. Фрэнк потерял лицо. Этим все сказано.
Коль скоро уж речь зашла о человеческой глупости, грех не вспомнить о «лузерах» и «винерах», благо автору «Незабвенной» удалось бульдозером проехаться по этой (еще одной «вечной») теме. Кажется, человечество усвоило эти два понятия еще до того, как научилось ловко управляться с палками-копалками. В любой стае крупных приматов имелись свои «лузеры» и «винеры», зуб даю! Уверен также, что эмоций по этому поводу в те прасказочные и продарвинские времена было ничуть не меньше, чем теперь, когда крупные приматы носят штаны и ботинки и курят сигареты «Парламент», чтобы избавиться от сопутствующих стрессов.
Освежающий сарказм Ивлина Во пришелся как нельзя более кстати. В его интерпретации рухнувшая карьера, бедность и даже несчастная любовь не имеют решительно никакого значения. Важно другое – кто ты: работник похоронного бюро или его клиент. Третьего в пространстве «Незабвенной», кажется, попросту не дано. На фоне кладбищенских аллей, урн с прахом и погребальных контор становится очевидно: настоящее лузерство – это быть клиентом похоронного бюро, какие бы роскошные похороны вам ни устроили.
Деннис Барлоу, поэт и «собачий похоронщик», в этой системе координат абсолютный победитель. Он – по ту сторону конторки похоронного бюро. Парень работает на смерть, ему плевать на всяческую суету сует, ему неведомо «томление духа». В его руках – антология поэзии, в его рабочем холодильнике рядом с трупом сиамской кошки стоит тарелка с бутербродами – вот вам рецепт душевного покоя по Ивлину Во (автор откровенно издевается и над своими героями, и над Его Величеством читателем, но его рецепт душевного покоя, как ни странно, куда честнее и убедительнее большинства прочих).
Трагикомичная история любви поэта Денниса – изумительная пародия на все истории любви, описанные в мировой литературе. Под раздачу попали все «певцы любви» – от Данте, Петрарки и Шекспира до пробела, который каждый может заполнить по вкусу. Его возлюбленная Эме, мисс Танатогенос (скудная меблировка ее интеллекта, о которую обдирал себе коленки пришелец из Европы, была приобретена в местной школе и университете), выписана автором с особым, нежнейшим сарказмом и заботливо умерщвлена в назидание прочим неуравновешенным Джульеттам.
Завтра и в каждую годовщину смерти, до тех пор, пока будут существовать «Угодья лучшего мира», мистер Джойбой будет получать почтовую карточку: «Твоя маленькая Эме виляет сегодня хвостиком на небесах, вспоминая о тебе».
Ну да, а как вы хотели? Все умерли, вернее, умерла только Эме Танатогенос, и еще – любимый попугай ее ухажера, гения бальзамировки мистера Джойбоя. Оба – и Эме, и попугай – завершили свой земной путь в газовой печи «Угодьев лучшего мира», а поэт Деннис нашел самый изящный способ навсегда отравить существование бывшему сопернику. Финал «Незабвенной» – настоящая кульминация восхитительного авторского цинизма, оценить который не смогут разве что те самые три процента населения, которые, согласно результатам социологического опроса, проведенного фондом «Русский проект», боятся смерти куда больше, чем роста цен…
1999 г.
Сияющий
(Безбашенные диалоги о Стивене Кинге)
Мой лучший друг заявился в гости и тут же устроился поближе к телевизору: смотрит «Сияние» – не кубриковское с Николсоном, а новый фильм, снятый под бдительным авторским присмотром самого Стивена Кинга. Я брожу из угла в угол, тихо порыкивая на мебель: мне вроде как надо эссе писать, а в голове ни одной путной мысли, да еще видик орет голосом Джека Торранса, и конца этому не видно: три серии, мать их… поубивал бы всех! И вообще, что за дурацкий способ провести одну из самых теплых майских ночей я изыскал на свою голову?!
– Ты чего мечешься, как тигра в клетке? – наконец спрашивает мой невольный мучитель.
– Мне писать надо, – мрачно сообщаю я.
– Ну так пиши! – великодушно соглашается он.
Думаете, я его убил? Вообще-то к тому шло, но я взял себя в руки. Ограничился взглядом – впрочем весьма многообещающим.
– А вот возьми и напиши про Кинга, – жизнерадостно предлагает друг. Да вот хотя бы про «Сияние». Хорошая ведь вещь.
– Напишу, – угрюмо соглашаюсь я. – Не сегодня, но когда-нибудь напишу. Только не про «Сияние». Может быть, про «Зеленую милю». А про «Сияние» ничего интересного не напишешь…
– Ну, не скажи, – оживляется он. – Интересно можно написать о чем угодно, а уж о Кинге… Ты можешь заявить, к примеру, что «Сияние» – это одна из множества книг о человеке, который не сумел распорядиться своим одиночеством… ну, навешаешь еще какой-нибудь мокрой лапши вперемешку с цитатами.
– Ха! – отмахиваюсь я. – Хорошо же ты обо мне думаешь…
– Или о том, что внешний враг всегда является лишь проекцией вовне врага внутреннего, – невозмутимо продолжает он, – помнишь интерпретацию мантрического значения перевернутой руны Mannaz по Блюму?
– Угу. И еще о том, что «сон разума порождает чудовищ» – эпиграф к роману, кстати. Но подобную спекуляцию можно присобачить почти к любой книге, – отмахиваюсь я. – И уж точно к любой книге Кинга. Это же его главная фишка, наряду с эксплуатацией потаенных, глубинных страхов… Ну, положим, я разведу эту бодягу о «внутреннем» и «внешнем» враге, а толку-то?! Если уж писать о «Сиянии»… Знаешь, мне кажется, было бы интересно описать эту историю с точки зрения отеля. Понимаешь, если рассматривать ситуацию с позиции человека, то «Оверлук» – очень плохое место, однозначно! Но возможно, для самого отеля это драматическая история любви? Отель встретил человека, Джека Торранса, и человек понравился отелю. «Оверлук» захотел очаровать Торранса, оставить его при себе, и поначалу все было хорошо… Слушай, а ведь отель вел себя очень по-женски: он ревновал, внушал бедняге Джеку, что жена и ребенок – его злейшие враги… подпаивал его даже. Сладкими обещаниями манил, интриговал, кружил голову. Некоторые женщины именно так и поступают, один из классических случаев! Но ничего не вышло. Считается, что у «Сияния» как бы «счастливый конец»: женщина и ребенок благополучно спаслись, сам Торранс хоть и погиб, но, так сказать, «освободившись от зла». А ведь с точки зрения самого «Оверлука» – это чудовищная драма! Просто «Ромео и Джульетта»: они любили друг друга, но не могли быть вместе и умерли в один день – отель-то ведь взорвался…
– Ладно, допустим, – спокойно соглашается он, в очередной раз нажимая на кнопку «пауза» (бедняга Торранс, судорожно дернувшись, снова замирает над своей пишущей машинкой). – А вот еще: тебе не приходило в голову, что Джек Торранс мог бы провести зиму в «Оверлуке» совсем иначе? Я имею в виду вот что: человек получил в свое распоряжение огромный, прекрасный дом со всеми удобствами. Он мог бы просто расслабиться, прогуливаться только по самым светлым комнатам, смотреть в окна, любоваться пейзажем, писать свою хренову пьесу, в конце концов… Но он сразу же сосредоточился на подвале. Неплохая метафора, ес? И чем он там занимался? Рылся в старых газетных вырезках, раскапывал всякие поганые подробности о прошлом отеля. В конце концов Джек с головой ушел в прошлое – не удивительно, что он его разбудил. У читателя может создаться впечатление, что трагедия с самого начала была неизбежна – а ни фига подобного!
– Не буди лихо, пока оно спит, – так, что ли? – устало улыбаюсь я.
– Не все так просто. Иногда это самое «лихо» надо уметь убаюкать! – торжественно говорит он. – И всегда следует помнить, что лучше не залезать в подвалы… по крайней мере, без особой нужды. Да и на самый верх, на крышу, лучше не лезть без хорошей подготовки: там всегда может обнаружиться осиное гнездо. Дурной знак!
– Но если уж ты решил лезть в подвал или на крышу, ни в коем случае нельзя брать заложников! – говорю я.
– Каких «заложников»? – Теперь он адресует мне вопросительный взгляд.
– Никаких! – твердо заявляю я. – Если уж тебе взбрело в голову будить очередное «лихо», которому лучше бы продолжать дрыхнуть, – на здоровье. В конце концов, любой человек волен делать со своей жизнью все, что сочтет нужным. Но это не значит, что он имеет право превращать в ад еще чью-то жизнь, – это уже нечестно. А Торранс жил в «Оверлуке» не один, а с семьей. Его жену и сына не интересовали подвалы «Оверлука». У них были другие планы.
– У них были планы остаться в живых, – хмыкает мой друг.
– Ну да. И они оказались удачливее.
Какое-то время мы печально молчим. Отдаем дань памяти Джека Торранса так, что ли?
– Вот! – внезапно восклицает мой друг. – Вот в чем дело! Они, Венди и Дэнни, действительно все время были рядом с Джеком, но они не были ВМЕСТЕ с ним, понимаешь? Если бы они все вместе полезли в подвал, если бы они вместе уничтожали осиное гнездо, если бы они вместе поддались темному очарованию отеля или вместе решили сбежать, все было бы иначе. Ты говоришь – нельзя «брать заложников». А может быть, нельзя становиться заложниками?
– Значит, надо быть соучастниками, – киваю я. – А если ты не соучастник – беги на край света, пока тебя не взяли в заложники!
– Получается, я с самого начала был прав, и «Сияние» – просто очередная история о человеческом одиночестве! – торжествующе заключает мой друг. – Нет одиночества более пронзительного, чем одиночество террориста, запертого в одной комнате с заложниками, уж поверь мне на слово!