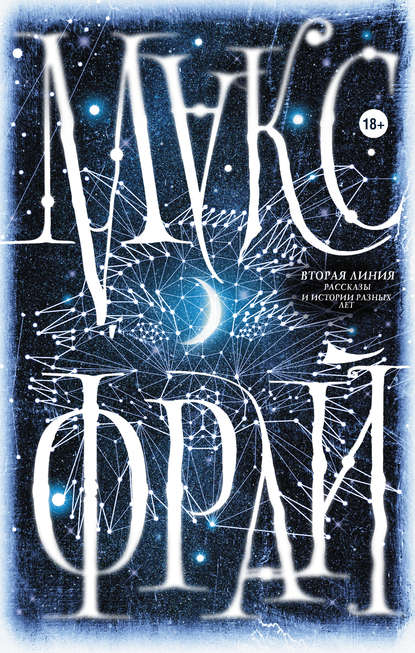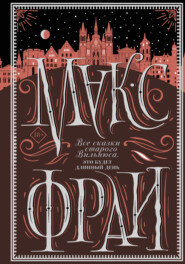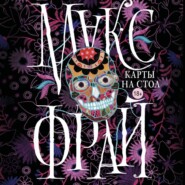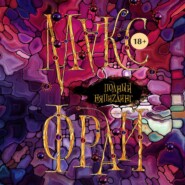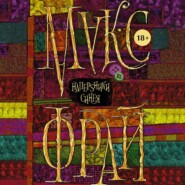По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вторая линия (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это вы москвичи бездомные? – ласково спросила она.
Лара отвернулась и беззвучно заржала, прикрыв рот рукой, так что вести переговоры пришлось мне.
– Бездомные москвичи – это и есть мы. Нас Ольга прислала. Вы не очень долго ждали?
– Совсем не ждала. Только-только постель застелить успела и окна открыть, чтобы проветрилось. Идемте в хату, я вам все покажу.
Экскурсия по тесной, заставленной старой мебелью, заклеенной блеклыми зелеными обоями «хате» отняла минут пять, но оказалась весьма поучительной. Мы уяснили расположение выключателей, научились управляться с газовой колонкой и страшной, как пищеварительный тракт людоеда, плитой, на которой громоздился древний чайник, чей возраст, по моим приблизительным прикидкам, датировался ранним мезозоем, а форма и размеры заставляли вспомнить все телевизионные передачи о космических кораблях пришельцев, какие мне случалось смотреть. Преисполнившись житейской мудрости, мы отдали старушке деньги и наконец-то остались одни.
Лара тут же упала на диван, застеленный белоснежной, накрахмаленной до состояния черствого коржа простыней. Диван пронзительно завизжал. Лара подскочила от неожиданности; потом, конечно, заулыбалась.
– Ишь, не нравится ему, – удовлетворенно сказала она. – Такая прекрасная бабушка эта тетя Лида И такой прекрасный дом, страшный как чума. И такая прекрасная кошмарная квартира. И такой прекрасный скрипучий диван. Счастливее меня нет никого на этой земле. Я даже жрать захотела на радостях. Но никуда ни за что не пойду, так и знай.
– Ладно, пойду один, – решил я. – Принесу тебе, чего душа пожелает. Заказывай.
– Э, нет, так не пойдет! Ты, значит, будешь наслаждаться жизнью, шляясь по душным гастрономам, а я здесь в полном одиночестве – страдать от несовместимости цвета обоев с моими духовными идеалами?! – возмутилась Лара. – Каков подлец! Нет уж, лучше помоги мне доковылять до угла. Хороший стейк – это серьезная мотивация.
Вернулись мы уже затемно, едва живые от усталости, сытые как удавы и почти пьяные – скорее от еды и впечатлений, чем от двух бокалов «Шато Бешевель». В тусклом свете чужих кухонных окон двор показался нам еще более унылым, зато квартира от полумрака только выиграла, но мы не стали ее особо разглядывать – упали на диван и уснули прежде, чем умолкли его скандальные пружины.
Когда я проснулся, было темно. Голова раскалывалась, в рот, похоже, насрали тараканы, привычная тупая боль в желудке жить особо не мешала, зато от изжоги впору было лезть на стенку. Однако у стенки басовито всхрапывала Сергевна, дала банку вчера с кумой, теперь будет дрыхнуть до самого утра, ее, когда накиряется, из пушки не разбудишь, и слава богу. Хоть сейчас никто мне сраку не морочит, не бухтит над ухом: «бу-бу-бу, бу-бу-бу», – и так целыми днями, как только сама от себя не устает. Она вообще ниче так, не злая, жрать готовит, убирается, и на морду смотреть даже в похмелье не страшно, но, е-мое, какая же нудная баба, ей бы училкой в школе работать, а не на кассе сидеть. Ладно, в жопу Ларису Сергевну, сейчас важно другое – не уссаться.
Спустил ноги на пол, поискал тапки, не нашел, и хуй с ними, пошел босой, так приспичило, тут не до шуток. Воду сливать не стал: бутыль мы вчера вроде не набирали, пусть хоть в бачке будет запас, если на кухне нечего попить. Сушняк у меня – это что-то. Пустыня Каракумы, клуб кинопутешествий с Сенкевичем на верблюде – и все это в моей глотке, включая верблюжачье говно, а я-то, дурной, гадаю, что у меня там сдохло.
Пошел на кухню, открыл холодильник. Пива, конечно, нет – сам дурак, не заначил. А в кастрюле у нас что? Ага, компот из вишни, точно, Сергевна же вчера сварила. Надо будет ей оставить на утро хотя бы кружечку, а то развоняется… Мать моя женщина, зачем было столько сахару сыпать?! У меня щас срака слипнется от такого компота, хуже, чем от варенья. А потом она еще удивляется, что ни в одни джинсы не влезает, и я в свои скоро не влезу от такой жизни.
Но полкастрюли приторного пойла я все-таки выдул залпом, сушняк – дело нешуточное. Стало полегче, даже голова чуть-чуть отпустила, и тут же захотелось курить. На столе папирос не было, у меня в штанах тоже, зато у Сергевны в сумке нашлось полпачки LM, она у меня запасливая, молодец.
Я открыл кухонное окно, по пояс высунулся наружу – темно, как у негра в жопе, хоть бы одно окно горело, так нет же, все дрыхнут, и ни луны, ни звезд, небо обложило, может, к утру дождик начнется, хорошо бы, тогда можно на работу не ходить, кто ж лоток в дождь ставит. С другой стороны, дома до вечера сидеть задолбает, и пару копеек не помешало бы… А, ладно. Как будет, так и будет, меня все равно не спросят.
Я закурил и удивился непривычному вкусу сигареты. Противная какая-то, как говном набита. Странно вообще, потому что раньше Ларискины сигареты мне нравились, я-то себе обычно папиросы покупаю, они покрепче, но LM у нее тоже таскаю понемногу – побаловаться, особенно с похмелья… Нет, ну все-таки какое говно! Я сплюнул и снова затянулся вонючим дымом. Не выбрасывать же теперь. Чего добро переводить.
После третьей затяжки я смутно почувствовал неладное. Словно бы сейчас случится что-то такое, чего мне совсем не надо. Ну, то ли кто-то камень в окно бросит, то ли в дверь ломиться начнут. Но ничего, как было тихо-спокойно, так и осталось, даже Сергевна не проснулась, я так и не понял, почему перестремался.
А после четвертой затяжки я наконец врубился, почему мне не нравится сигарета. Вспомнил, что уже много лет не курил такое дерьмо. Я всегда покупаю табак – табак?! – с ароматом сливы и сигаретную бумагу, чтобы делать самокрутки, у меня еще машинка специальная, импортная, но я и руками могу… Нет, стоп. Что за хуйня? Какая, к японской матери, «машинка»?! Ну все, пиздец, допился.
Я услышал, как чужой, незнакомый голос говорит, по-бабьи взвизгивая от ужаса: «Свит плам. Экселент свит плам». Хуй знает, что это значит. Но звучит погано.
А потом до меня дошло, что эту тарабарщину говорю я сам, и голос, выходит – мой. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно, так страшно, что я сел на пол и заскулил, как побитый пес. Вышло совсем уж жутко, так что я сразу же заткнулся и встал. Выбросил окурок в окно, пошел в коридор, включил свет, обшарил все карманы. В зимней куртке нашел наполовину выпотрошенную папиросу – и больше ничего. Ни табака, ни бумажек, ни, тем более, «машинки» – как, интересно, она хоть выглядит? В любом случае, ничего похожего на «машинку» ни в моих карманах, ни на трюмо не было.
Я вернулся на кухню и раскурил папиросу. От первой затяжки меня чуть не стошнило. «Заболел, – подумал я. – Вот оно что, просто заболел. Отравился. Точно, Людка, кума, вчера горбушу в банке принесла, и я ее почти всю сам сожрал, пока девки картошку жарили, они еще обиделись, что им мало оставил. Ну да, точно, отравился, у меня сейчас, наверное, температура сорок и бред, хорошо хоть не белая горячка. «Экселент свит плам» – это ж надо такое выдумать».
Я почти успокоился, потому что отравиться – это хреново, но хоть, по крайней мере, все понятно, и тут вспомнил, как выглядит пачка табака «Excellent Sweet Plum». Темно-синяя, с белыми буквами, а уголок красный, тоже с надписью. Вспомнил, что «sweet plum» значит – «сладкая слива». Вспомнил, что раньше, несколько лет назад, мне больше нравился «cherry», вишневый, а потом я запал на сливу, и с тех пор… Бля! Какое еще «чери»? Какие «несколько лет»?! Ну, пиздец совсем.
Я чувствовал, что еще немного, и я вспомню все остальное. Понятия не имел, что это будет. Но откуда-то знал, что эти воспоминания камня на камне не оставят от моих представлений о себе. Другими словами, от меня самого. Хрен его знает, что это будет за мужик – тот, другой, которого тошнит от моих папирос. Но точно не я.
– Это же все равно что сдохнуть, – сказал я вслух. Сам себе не поверил, поэтому повторил: – Все равно что сдохнуть. – И так испугался, что заткнулся.
Молчание не пошло мне на пользу – в том смысле, что чужие воспоминания снова принялись шерудить у меня в голове. Я старался их не слушать, не обращать внимания, не верить, отвлекался как мог. Выпил еще компота. Зачем-то покрутил краны, но воды не было, ночью и не положено, в шесть утра пойдет. Тогда я пошел в туалет, зачерпнул немного воды из унитазного бачка и вылил себе на макушку. Все это помогало, но ненадолго. Чужие, назойливые воспоминания возвращались снова и снова, я знал, что мне против них не устоять – без бухла, так точно не устоять, а бухла в доме не было ни капли. Все выжрали вчера, так что я попал.
– Сбегать, что ли, на Софиевскую? – нерешительно сказал я.
На Софиевской, в трех кварталах от нас, работал круглосуточный магазин, а у меня на такой случай были заначены десять гривен, так что вроде бы никаких проблем. Но выходить из дома я почему-то боялся даже больше, чем вспоминать про чужой табак. Квартира сейчас казалась мне чем-то вроде крабьего панциря – пока внутри, я худо-бедно цел, а стоит выйти – разорвут в клочья. Кто именно меня разорвет, как и зачем – на эти вопросы я не имел ответа. И не хотел его получать. Ну на фиг.
Время тянулось хуже, чем в детстве. Мне казалось, с того момента, как я ходил умываться, прошло часа полтора, а на самом деле – три минуты. Ебануться можно.
– Так, – сказал я себе. – Все. Харэ бздеть. Щас. Ты. Найдешь свои тапки. Наденешь брюки. Возьмешь гроши. И пойдешь, сука, в магазин за бутылкой. Как миленький. И будешь лечиться. Говна кусок припоцанный.
Внушение подействовало. По крайней мере, штаны я как-то натянул. И свежую майку. И сунул ноги в резиновые уличные шлепанцы. Но заставить себя открыть дверь, ведущую в подъезд, я не смог, как ни старался. Я почему-то был совершенно уверен, что никакого подъезда там нет. И вообще ничего нет, только душная тьма, как за кухонным окном. Проверить, так это или нет, у меня не хватало мужества: приблизив лицо к раздолбанной замочной скважине, я тут же отпрянул, таким затхлым, не по-летнему холодным воздухом тянуло из подъезда. Будто его и впрямь не было, только космос, как вокруг какой-нибудь орбитальной станции. Причем такой дурной космос, что в нем космонавту даже звезд не полагается, и вообще ничего.
Дело кончилось тем, что я сел на пол в коридоре и заплакал.
– Бля-а-а-а, – тихо, нараспев говорил я сквозь слезы. – Ой, бля-а-а-а!
Вся эта херня совершенно меня вымотала, так что не осталось никаких сил сопротивляться чужим воспоминаниям, и они наконец обрушились на мою голову, как гора песка с самосвала, только не снаружи, а изнутри, откуда обычно не ждешь подвоха, вот в чем подлость.
Сперва я вспомнил табачную лавку на Покровке, где обычно покупал этот свой «sweet plum», как раз через дорогу от нашего с Мишкой офиса. И как мы зашивались этой зимой с проектом для экологов, сидели там по ночам, и у меня вечно невовремя заканчивался табак, часа этак в два-три ночи, когда лавка, понятное дело, была закрыта. Я все собирался купить две пачки и одну спрятать в столе, про запас, а днем почему-то напрочь об этом забывал – совершенно на меня не похоже, обычно я все мелочи держу под контролем, привычка с детства, слишком часто приходилось собирать вещи и переезжать, с места на место, из города в город, с одного края света на другой, из Казахстана в военный городок под Ютербогом, а из этой райской глуши – в студеный, неприветливый Мурманск, оттуда – в захолустную, тоскливую Рязань и, почти там не задержавшись, в сладчайший, сонный, выбеленный солнцем Севастополь; а потом отец наконец вышел в отставку, и переезды закончились, но я к тому времени уже вырос и принялся скитаться самостоятельно, пока не застрял намертво в Москве, которая настолько откровенно не подходит для нормального человеческого существования, что я как-то незаметно для себя там прижился, в полной уверенности, что, конечно же, скоро сбегу, не в этом году, пожалуй, но в следующем – непременно. Я, кстати, не раз убеждался, что почти все мои надолго осевшие в Москве приятели подкармливали свою страсть к перемене мест ровно теми же байками. Впрочем, мне было там неплохо; наверное, только настоящему перекати-полю и может быть хорошо в Москве, все маются, а нам – в самый раз: живешь, как на вокзале, не зная толком, чем будешь зарабатывать и по какому адресу поселишься в следующем году, каждый день проводишь как минимум два часа в дороге, рюкзак, уходя на работу, собираешь, как в поход, завтракаешь в кофейнях, ужинаешь в кабаках, чем не турист. Ужин я, впрочем, под настроение могу приготовить и сам, а вот завтракать люблю возле нашей конторы, на Покровке, в «Кофе Бине», который всем хорош, кроме досадной необходимости выходить с сигаретой на улицу. Но и это, в конечном итоге, оказалось к лучшему, потому что однажды рядом со мной на крыльце нелояльной к курильщикам кофейни чиркала отсыревшими спичками высокая рыжая женщина с серыми, как мартовское небо, глазами и узкими, сизыми от холода ладонями. Она с таким откровенным любопытством принюхивалась к моему сладкому сливовому дыму, что я не мог не предложить ей попробовать; выяснилось, что ее зовут Лара, и я как-то сразу понял, что нам больше не стоит надолго расставаться, но более-менее убедительно изложить свою позицию сумел только три дня и девяносто восемь эсэмэсок спустя.
К этому моменту я уже знал, что воспоминания вовсе не чужие, а самые что ни на есть мои. Настолько мои, что непонятно теперь, как я мог обходиться без них целых полчаса или сколько там прошло времени с тех пор, как я проснулся на продавленном диване в съемной – съемной, конечно же, всего на сутки арендованной, о господи! – квартире.
Я отнял руки от лица. Обнаружил, что сижу на полу в коридоре, провел рукой по лбу и уже изготовился сказать себе со снисходительным упреком: «А вот не хрен вкусные звериные трупы жрать на ночь в таком количестве», – и тут увидел, что напротив, совсем рядом на полу сидит какой-то неопрятный пожилой мужик с необъятным брюхом, тонкой шеей и мутными не то с перепоя, не то от бессонницы глазами. Как он сюда попал?!
В панике я вскочил на ноги, и чужой мужик тоже вскочил, дико вращая глазами и судорожно открывая рот, как рыба, вытащенная из воды; только тогда я понял, что этот пузатый хмырь – мое собственное зеркальное отражение, и вот тут мне стало по-настоящему страшно, а все, что было до сих пор, – пустяки, дело житейское, сон в летнюю ночь.
Крик перегорел во мне прежде, чем я открыл рот; зазеркальный мужик сполз обратно на пол и тихо, но твердо сказал вслух: «Нет, так не пойдет». А еще какое-то время спустя жалобно спросил: «Это сколько же мне лет теперь?» И почти сразу, свистящим от ужаса шепотом: «А Ларка, выходит, тоже… такая?»
Надо было пойти и посмотреть на нее – вот прямо сейчас, сразу, не откладывая, узнать правду и сдохнуть от нее на месте, а еще лучше – придумать, что со всем этим можно сделать. Всегда можно что-нибудь сделать. Пока человек жив, все поправимо, я точно знаю, я много раз проверял.
Но я так боялся заходить в комнату, где спала Лара, что вместо этого поплелся на кухню, где, я вспомнил, остались какие-то сигареты; я не понимал пока, являемся мы с пузатым мужиком из зеркала одним целым, или все-таки двумя разными существами, которым предстоит смертельная битва за сомнительное удовольствие существовать в этом восхитительном теле, но курить хотели мы оба, и это было куда хуже, чем хотеть курить в одиночку. Поэтому я пошел на кухню, достал из пачки сигарету LM, чиркнул спичкой, затянулся горьким дымом и тут же, зажимая рот руками, помчался в туалет. Меня вывернуло наизнанку – не то от скверного курева, не то все-таки от страха, но после этого стало ощутимо легче.
– Здесь, – вслух сказал я, приковыляв на неверных ногах обратно в коридор, – был наш рюкзак. А в рюкзаке – бутылка воды и мой табак. Sweet plum, сладкая слива. Где он? Я точно помню, как ставил рюкзак вот в этот угол, а…
И, еще не договорив, увидел: да вот же он, темно-красный, с белыми и синими звездами, стоит себе на полу, как я его раньше не заметил? Хотя нет, это как раз понятно, не заметил, потому что не было никакого рюкзака, он появился после того, как я вспомнил, куда его поставил. Ага, вода на месте, и табачок, и бумажки, а больше ничего там нет, пусто – наверняка потому, что я вспомнил только про воду и табак. Ничего, ничего, сейчас все исправим. Там еще был пакет с плавками и Ларкиным купальником, и ее кофточка, серая, с капюшоном, и плеер в кармане, а в другом – камера, а в третьем, маленьком, мои темные очки, любимые, янтарно-коричневые, классической формы, «слезки», как говорили у нас в школе, с немного погнутой дужкой, я ее все время выправляю, а она опять гнется.
Я снова заглянул в рюкзак. Перечисленные вещи преспокойно лежали на своих местах. Я одобрительно кивнул и принялся скручивать сливовую сигарету. Руки дрожали, пальцы не слушались, но это меня больше не пугало, я уже почти знал, что нужно делать, то есть, почти верил, что знаю. Но все равно.
Осталось понять, кто я все-таки такой, – подумал я, усевшись на кухонный подоконник. – Будет обидно, если на самом деле я и есть тот дядька из зеркала, которому приснился длинный-длинный, очень реалистичный сон про чужую жизнь, в духе даосских историй, «пока варился суп», и все в таком роде. А почему нет, собственно? Что мы знаем о белой горячке, кроме полусотни примерно одинаковых дурацких шуток про зеленых чертей? А ничего. Ровным счетом ничего. Может, и такая бывает белочка. Но тогда получается, вместо Ларки у меня там… Да уж, черт знает кто у меня там вместо Ларки, если так. И сам я, конечно, тот еще подарок. И жизнь мне, надо думать предстоит «тяжелая, зато короткая», как офисные шутники на плакатах пишут… Так, стоп. Если я – тот мужик из зеркала, откуда бы мне знать про офисных шутников? И Ляо Чжая я, получается, тоже во сне читал? А что ж, может, и нет в природе никакого Ляо Чжая, и офисных шутников тоже нет, и вообще ничего, одна только ложная память и прожорливая мировая бездна за окном. Причем «прожорливая мировая бездна» – это, боюсь, не совсем метафора, вернее, вовсе не метафора. Вот же она, совсем рядом, руку протяни, дышит, разглядывает меня внимательно, выжидает; еще помоет, небось, перед употреблением. Или уже помыла.
– Нет, так не пойдет, – твердо сказал я. – Ты давай не о бездне думай, а о себе. О том, кто ты такой. И что тебе теперь делать. Вариантов немного, выбирай.
«Выбирай» – это было ключевое слово. Я наконец понял, что все сейчас зависит от моего выбора. Как решу, так и будет. Вон когда захотел курить, сразу выбрал тот вариант реальности, в котором красный рюкзак с запасами табака – не сон, а единственная и неповторимая правда жизни. А теперь надо быть последовательным: если есть рюкзак, значит, я – его хозяин, а не умученный сивухой пузатый мужик. Так? Так или нет, я тебя спрашиваю?! А если так, ступай в коридор и посмотри на себя в зеркало. И только попробуй увидеть там не того, кого следует, я убью тебя, глупая, трусливая скотина, своими – твоими, конечно же, – руками, так и знай. Хватит уже трястись, пшел в коридор! Кому говорю?
Когда я увидел в зеркале знакомое лицо – перекошенное от ужаса, с белыми от ярости глазами и пятнами на скулах, но, бесспорно, мое – я не зарыдал от счастья, не завопил победительно, даже, кажется, не особо обрадовался, только тихонько вздохнул от облегчения, перевел дух – вот именно, лучше не скажешь, перевел стрелки духа, как переводят часы, вернувшись домой из далекого путешествия. Достал из рюкзака бутылку с водой, отпил несколько глотков и пошел в комнату. Осторожно, стараясь не шуметь, улегся на диван, обнял Лару, уткнулся губами в ее затылок, стал говорить почти беззвучно: «Завтра утром мы будем пить кофе на углу, стейки – это ладно, дело житейское, а кофе у них обалденный, и там к нему, знаешь, подают такие большие деревянные шкатулки с сахаром и специями, так здорово, нигде больше ничего подобного не видел. Тебе понравится – кофе, шкатулки и вообще все, поэтому спи спокойно, а завтра, пожалуйста, проснись рядом со мной, очень тебя прошу».
Я лежал без сна до рассвета, а когда взошло солнце, и стало совершенно очевидно, что никакой «прожорливой мировой бездны» за окном больше нет, только ясное небо, серый асфальт и цветные ромашки, окончательно успокоился и уснул, да так крепко, что Лара едва меня добудилась.
– Ну ты здоров спать, – с искренней завистью сказала она. – А мне всю ночь какая-то жуткая дрянь снилась, совершенно не помню, что именно, но точно дрянь, я та-а-ак обрадовалась, когда наконец проснулась, знал бы ты… И голова трещит, как будто мы с тобой весь вечер самогон жрали. Перегрелась я вчера, вот чего. И ты тоже, да? Выглядишь… скажем так, возвышено.
– Перегрелся, да, – согласился я. – Ничего, сейчас пойдем пить кофе в «Стейк-хаус». Они там…
Лара отвернулась и беззвучно заржала, прикрыв рот рукой, так что вести переговоры пришлось мне.
– Бездомные москвичи – это и есть мы. Нас Ольга прислала. Вы не очень долго ждали?
– Совсем не ждала. Только-только постель застелить успела и окна открыть, чтобы проветрилось. Идемте в хату, я вам все покажу.
Экскурсия по тесной, заставленной старой мебелью, заклеенной блеклыми зелеными обоями «хате» отняла минут пять, но оказалась весьма поучительной. Мы уяснили расположение выключателей, научились управляться с газовой колонкой и страшной, как пищеварительный тракт людоеда, плитой, на которой громоздился древний чайник, чей возраст, по моим приблизительным прикидкам, датировался ранним мезозоем, а форма и размеры заставляли вспомнить все телевизионные передачи о космических кораблях пришельцев, какие мне случалось смотреть. Преисполнившись житейской мудрости, мы отдали старушке деньги и наконец-то остались одни.
Лара тут же упала на диван, застеленный белоснежной, накрахмаленной до состояния черствого коржа простыней. Диван пронзительно завизжал. Лара подскочила от неожиданности; потом, конечно, заулыбалась.
– Ишь, не нравится ему, – удовлетворенно сказала она. – Такая прекрасная бабушка эта тетя Лида И такой прекрасный дом, страшный как чума. И такая прекрасная кошмарная квартира. И такой прекрасный скрипучий диван. Счастливее меня нет никого на этой земле. Я даже жрать захотела на радостях. Но никуда ни за что не пойду, так и знай.
– Ладно, пойду один, – решил я. – Принесу тебе, чего душа пожелает. Заказывай.
– Э, нет, так не пойдет! Ты, значит, будешь наслаждаться жизнью, шляясь по душным гастрономам, а я здесь в полном одиночестве – страдать от несовместимости цвета обоев с моими духовными идеалами?! – возмутилась Лара. – Каков подлец! Нет уж, лучше помоги мне доковылять до угла. Хороший стейк – это серьезная мотивация.
Вернулись мы уже затемно, едва живые от усталости, сытые как удавы и почти пьяные – скорее от еды и впечатлений, чем от двух бокалов «Шато Бешевель». В тусклом свете чужих кухонных окон двор показался нам еще более унылым, зато квартира от полумрака только выиграла, но мы не стали ее особо разглядывать – упали на диван и уснули прежде, чем умолкли его скандальные пружины.
Когда я проснулся, было темно. Голова раскалывалась, в рот, похоже, насрали тараканы, привычная тупая боль в желудке жить особо не мешала, зато от изжоги впору было лезть на стенку. Однако у стенки басовито всхрапывала Сергевна, дала банку вчера с кумой, теперь будет дрыхнуть до самого утра, ее, когда накиряется, из пушки не разбудишь, и слава богу. Хоть сейчас никто мне сраку не морочит, не бухтит над ухом: «бу-бу-бу, бу-бу-бу», – и так целыми днями, как только сама от себя не устает. Она вообще ниче так, не злая, жрать готовит, убирается, и на морду смотреть даже в похмелье не страшно, но, е-мое, какая же нудная баба, ей бы училкой в школе работать, а не на кассе сидеть. Ладно, в жопу Ларису Сергевну, сейчас важно другое – не уссаться.
Спустил ноги на пол, поискал тапки, не нашел, и хуй с ними, пошел босой, так приспичило, тут не до шуток. Воду сливать не стал: бутыль мы вчера вроде не набирали, пусть хоть в бачке будет запас, если на кухне нечего попить. Сушняк у меня – это что-то. Пустыня Каракумы, клуб кинопутешествий с Сенкевичем на верблюде – и все это в моей глотке, включая верблюжачье говно, а я-то, дурной, гадаю, что у меня там сдохло.
Пошел на кухню, открыл холодильник. Пива, конечно, нет – сам дурак, не заначил. А в кастрюле у нас что? Ага, компот из вишни, точно, Сергевна же вчера сварила. Надо будет ей оставить на утро хотя бы кружечку, а то развоняется… Мать моя женщина, зачем было столько сахару сыпать?! У меня щас срака слипнется от такого компота, хуже, чем от варенья. А потом она еще удивляется, что ни в одни джинсы не влезает, и я в свои скоро не влезу от такой жизни.
Но полкастрюли приторного пойла я все-таки выдул залпом, сушняк – дело нешуточное. Стало полегче, даже голова чуть-чуть отпустила, и тут же захотелось курить. На столе папирос не было, у меня в штанах тоже, зато у Сергевны в сумке нашлось полпачки LM, она у меня запасливая, молодец.
Я открыл кухонное окно, по пояс высунулся наружу – темно, как у негра в жопе, хоть бы одно окно горело, так нет же, все дрыхнут, и ни луны, ни звезд, небо обложило, может, к утру дождик начнется, хорошо бы, тогда можно на работу не ходить, кто ж лоток в дождь ставит. С другой стороны, дома до вечера сидеть задолбает, и пару копеек не помешало бы… А, ладно. Как будет, так и будет, меня все равно не спросят.
Я закурил и удивился непривычному вкусу сигареты. Противная какая-то, как говном набита. Странно вообще, потому что раньше Ларискины сигареты мне нравились, я-то себе обычно папиросы покупаю, они покрепче, но LM у нее тоже таскаю понемногу – побаловаться, особенно с похмелья… Нет, ну все-таки какое говно! Я сплюнул и снова затянулся вонючим дымом. Не выбрасывать же теперь. Чего добро переводить.
После третьей затяжки я смутно почувствовал неладное. Словно бы сейчас случится что-то такое, чего мне совсем не надо. Ну, то ли кто-то камень в окно бросит, то ли в дверь ломиться начнут. Но ничего, как было тихо-спокойно, так и осталось, даже Сергевна не проснулась, я так и не понял, почему перестремался.
А после четвертой затяжки я наконец врубился, почему мне не нравится сигарета. Вспомнил, что уже много лет не курил такое дерьмо. Я всегда покупаю табак – табак?! – с ароматом сливы и сигаретную бумагу, чтобы делать самокрутки, у меня еще машинка специальная, импортная, но я и руками могу… Нет, стоп. Что за хуйня? Какая, к японской матери, «машинка»?! Ну все, пиздец, допился.
Я услышал, как чужой, незнакомый голос говорит, по-бабьи взвизгивая от ужаса: «Свит плам. Экселент свит плам». Хуй знает, что это значит. Но звучит погано.
А потом до меня дошло, что эту тарабарщину говорю я сам, и голос, выходит – мой. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно, так страшно, что я сел на пол и заскулил, как побитый пес. Вышло совсем уж жутко, так что я сразу же заткнулся и встал. Выбросил окурок в окно, пошел в коридор, включил свет, обшарил все карманы. В зимней куртке нашел наполовину выпотрошенную папиросу – и больше ничего. Ни табака, ни бумажек, ни, тем более, «машинки» – как, интересно, она хоть выглядит? В любом случае, ничего похожего на «машинку» ни в моих карманах, ни на трюмо не было.
Я вернулся на кухню и раскурил папиросу. От первой затяжки меня чуть не стошнило. «Заболел, – подумал я. – Вот оно что, просто заболел. Отравился. Точно, Людка, кума, вчера горбушу в банке принесла, и я ее почти всю сам сожрал, пока девки картошку жарили, они еще обиделись, что им мало оставил. Ну да, точно, отравился, у меня сейчас, наверное, температура сорок и бред, хорошо хоть не белая горячка. «Экселент свит плам» – это ж надо такое выдумать».
Я почти успокоился, потому что отравиться – это хреново, но хоть, по крайней мере, все понятно, и тут вспомнил, как выглядит пачка табака «Excellent Sweet Plum». Темно-синяя, с белыми буквами, а уголок красный, тоже с надписью. Вспомнил, что «sweet plum» значит – «сладкая слива». Вспомнил, что раньше, несколько лет назад, мне больше нравился «cherry», вишневый, а потом я запал на сливу, и с тех пор… Бля! Какое еще «чери»? Какие «несколько лет»?! Ну, пиздец совсем.
Я чувствовал, что еще немного, и я вспомню все остальное. Понятия не имел, что это будет. Но откуда-то знал, что эти воспоминания камня на камне не оставят от моих представлений о себе. Другими словами, от меня самого. Хрен его знает, что это будет за мужик – тот, другой, которого тошнит от моих папирос. Но точно не я.
– Это же все равно что сдохнуть, – сказал я вслух. Сам себе не поверил, поэтому повторил: – Все равно что сдохнуть. – И так испугался, что заткнулся.
Молчание не пошло мне на пользу – в том смысле, что чужие воспоминания снова принялись шерудить у меня в голове. Я старался их не слушать, не обращать внимания, не верить, отвлекался как мог. Выпил еще компота. Зачем-то покрутил краны, но воды не было, ночью и не положено, в шесть утра пойдет. Тогда я пошел в туалет, зачерпнул немного воды из унитазного бачка и вылил себе на макушку. Все это помогало, но ненадолго. Чужие, назойливые воспоминания возвращались снова и снова, я знал, что мне против них не устоять – без бухла, так точно не устоять, а бухла в доме не было ни капли. Все выжрали вчера, так что я попал.
– Сбегать, что ли, на Софиевскую? – нерешительно сказал я.
На Софиевской, в трех кварталах от нас, работал круглосуточный магазин, а у меня на такой случай были заначены десять гривен, так что вроде бы никаких проблем. Но выходить из дома я почему-то боялся даже больше, чем вспоминать про чужой табак. Квартира сейчас казалась мне чем-то вроде крабьего панциря – пока внутри, я худо-бедно цел, а стоит выйти – разорвут в клочья. Кто именно меня разорвет, как и зачем – на эти вопросы я не имел ответа. И не хотел его получать. Ну на фиг.
Время тянулось хуже, чем в детстве. Мне казалось, с того момента, как я ходил умываться, прошло часа полтора, а на самом деле – три минуты. Ебануться можно.
– Так, – сказал я себе. – Все. Харэ бздеть. Щас. Ты. Найдешь свои тапки. Наденешь брюки. Возьмешь гроши. И пойдешь, сука, в магазин за бутылкой. Как миленький. И будешь лечиться. Говна кусок припоцанный.
Внушение подействовало. По крайней мере, штаны я как-то натянул. И свежую майку. И сунул ноги в резиновые уличные шлепанцы. Но заставить себя открыть дверь, ведущую в подъезд, я не смог, как ни старался. Я почему-то был совершенно уверен, что никакого подъезда там нет. И вообще ничего нет, только душная тьма, как за кухонным окном. Проверить, так это или нет, у меня не хватало мужества: приблизив лицо к раздолбанной замочной скважине, я тут же отпрянул, таким затхлым, не по-летнему холодным воздухом тянуло из подъезда. Будто его и впрямь не было, только космос, как вокруг какой-нибудь орбитальной станции. Причем такой дурной космос, что в нем космонавту даже звезд не полагается, и вообще ничего.
Дело кончилось тем, что я сел на пол в коридоре и заплакал.
– Бля-а-а-а, – тихо, нараспев говорил я сквозь слезы. – Ой, бля-а-а-а!
Вся эта херня совершенно меня вымотала, так что не осталось никаких сил сопротивляться чужим воспоминаниям, и они наконец обрушились на мою голову, как гора песка с самосвала, только не снаружи, а изнутри, откуда обычно не ждешь подвоха, вот в чем подлость.
Сперва я вспомнил табачную лавку на Покровке, где обычно покупал этот свой «sweet plum», как раз через дорогу от нашего с Мишкой офиса. И как мы зашивались этой зимой с проектом для экологов, сидели там по ночам, и у меня вечно невовремя заканчивался табак, часа этак в два-три ночи, когда лавка, понятное дело, была закрыта. Я все собирался купить две пачки и одну спрятать в столе, про запас, а днем почему-то напрочь об этом забывал – совершенно на меня не похоже, обычно я все мелочи держу под контролем, привычка с детства, слишком часто приходилось собирать вещи и переезжать, с места на место, из города в город, с одного края света на другой, из Казахстана в военный городок под Ютербогом, а из этой райской глуши – в студеный, неприветливый Мурманск, оттуда – в захолустную, тоскливую Рязань и, почти там не задержавшись, в сладчайший, сонный, выбеленный солнцем Севастополь; а потом отец наконец вышел в отставку, и переезды закончились, но я к тому времени уже вырос и принялся скитаться самостоятельно, пока не застрял намертво в Москве, которая настолько откровенно не подходит для нормального человеческого существования, что я как-то незаметно для себя там прижился, в полной уверенности, что, конечно же, скоро сбегу, не в этом году, пожалуй, но в следующем – непременно. Я, кстати, не раз убеждался, что почти все мои надолго осевшие в Москве приятели подкармливали свою страсть к перемене мест ровно теми же байками. Впрочем, мне было там неплохо; наверное, только настоящему перекати-полю и может быть хорошо в Москве, все маются, а нам – в самый раз: живешь, как на вокзале, не зная толком, чем будешь зарабатывать и по какому адресу поселишься в следующем году, каждый день проводишь как минимум два часа в дороге, рюкзак, уходя на работу, собираешь, как в поход, завтракаешь в кофейнях, ужинаешь в кабаках, чем не турист. Ужин я, впрочем, под настроение могу приготовить и сам, а вот завтракать люблю возле нашей конторы, на Покровке, в «Кофе Бине», который всем хорош, кроме досадной необходимости выходить с сигаретой на улицу. Но и это, в конечном итоге, оказалось к лучшему, потому что однажды рядом со мной на крыльце нелояльной к курильщикам кофейни чиркала отсыревшими спичками высокая рыжая женщина с серыми, как мартовское небо, глазами и узкими, сизыми от холода ладонями. Она с таким откровенным любопытством принюхивалась к моему сладкому сливовому дыму, что я не мог не предложить ей попробовать; выяснилось, что ее зовут Лара, и я как-то сразу понял, что нам больше не стоит надолго расставаться, но более-менее убедительно изложить свою позицию сумел только три дня и девяносто восемь эсэмэсок спустя.
К этому моменту я уже знал, что воспоминания вовсе не чужие, а самые что ни на есть мои. Настолько мои, что непонятно теперь, как я мог обходиться без них целых полчаса или сколько там прошло времени с тех пор, как я проснулся на продавленном диване в съемной – съемной, конечно же, всего на сутки арендованной, о господи! – квартире.
Я отнял руки от лица. Обнаружил, что сижу на полу в коридоре, провел рукой по лбу и уже изготовился сказать себе со снисходительным упреком: «А вот не хрен вкусные звериные трупы жрать на ночь в таком количестве», – и тут увидел, что напротив, совсем рядом на полу сидит какой-то неопрятный пожилой мужик с необъятным брюхом, тонкой шеей и мутными не то с перепоя, не то от бессонницы глазами. Как он сюда попал?!
В панике я вскочил на ноги, и чужой мужик тоже вскочил, дико вращая глазами и судорожно открывая рот, как рыба, вытащенная из воды; только тогда я понял, что этот пузатый хмырь – мое собственное зеркальное отражение, и вот тут мне стало по-настоящему страшно, а все, что было до сих пор, – пустяки, дело житейское, сон в летнюю ночь.
Крик перегорел во мне прежде, чем я открыл рот; зазеркальный мужик сполз обратно на пол и тихо, но твердо сказал вслух: «Нет, так не пойдет». А еще какое-то время спустя жалобно спросил: «Это сколько же мне лет теперь?» И почти сразу, свистящим от ужаса шепотом: «А Ларка, выходит, тоже… такая?»
Надо было пойти и посмотреть на нее – вот прямо сейчас, сразу, не откладывая, узнать правду и сдохнуть от нее на месте, а еще лучше – придумать, что со всем этим можно сделать. Всегда можно что-нибудь сделать. Пока человек жив, все поправимо, я точно знаю, я много раз проверял.
Но я так боялся заходить в комнату, где спала Лара, что вместо этого поплелся на кухню, где, я вспомнил, остались какие-то сигареты; я не понимал пока, являемся мы с пузатым мужиком из зеркала одним целым, или все-таки двумя разными существами, которым предстоит смертельная битва за сомнительное удовольствие существовать в этом восхитительном теле, но курить хотели мы оба, и это было куда хуже, чем хотеть курить в одиночку. Поэтому я пошел на кухню, достал из пачки сигарету LM, чиркнул спичкой, затянулся горьким дымом и тут же, зажимая рот руками, помчался в туалет. Меня вывернуло наизнанку – не то от скверного курева, не то все-таки от страха, но после этого стало ощутимо легче.
– Здесь, – вслух сказал я, приковыляв на неверных ногах обратно в коридор, – был наш рюкзак. А в рюкзаке – бутылка воды и мой табак. Sweet plum, сладкая слива. Где он? Я точно помню, как ставил рюкзак вот в этот угол, а…
И, еще не договорив, увидел: да вот же он, темно-красный, с белыми и синими звездами, стоит себе на полу, как я его раньше не заметил? Хотя нет, это как раз понятно, не заметил, потому что не было никакого рюкзака, он появился после того, как я вспомнил, куда его поставил. Ага, вода на месте, и табачок, и бумажки, а больше ничего там нет, пусто – наверняка потому, что я вспомнил только про воду и табак. Ничего, ничего, сейчас все исправим. Там еще был пакет с плавками и Ларкиным купальником, и ее кофточка, серая, с капюшоном, и плеер в кармане, а в другом – камера, а в третьем, маленьком, мои темные очки, любимые, янтарно-коричневые, классической формы, «слезки», как говорили у нас в школе, с немного погнутой дужкой, я ее все время выправляю, а она опять гнется.
Я снова заглянул в рюкзак. Перечисленные вещи преспокойно лежали на своих местах. Я одобрительно кивнул и принялся скручивать сливовую сигарету. Руки дрожали, пальцы не слушались, но это меня больше не пугало, я уже почти знал, что нужно делать, то есть, почти верил, что знаю. Но все равно.
Осталось понять, кто я все-таки такой, – подумал я, усевшись на кухонный подоконник. – Будет обидно, если на самом деле я и есть тот дядька из зеркала, которому приснился длинный-длинный, очень реалистичный сон про чужую жизнь, в духе даосских историй, «пока варился суп», и все в таком роде. А почему нет, собственно? Что мы знаем о белой горячке, кроме полусотни примерно одинаковых дурацких шуток про зеленых чертей? А ничего. Ровным счетом ничего. Может, и такая бывает белочка. Но тогда получается, вместо Ларки у меня там… Да уж, черт знает кто у меня там вместо Ларки, если так. И сам я, конечно, тот еще подарок. И жизнь мне, надо думать предстоит «тяжелая, зато короткая», как офисные шутники на плакатах пишут… Так, стоп. Если я – тот мужик из зеркала, откуда бы мне знать про офисных шутников? И Ляо Чжая я, получается, тоже во сне читал? А что ж, может, и нет в природе никакого Ляо Чжая, и офисных шутников тоже нет, и вообще ничего, одна только ложная память и прожорливая мировая бездна за окном. Причем «прожорливая мировая бездна» – это, боюсь, не совсем метафора, вернее, вовсе не метафора. Вот же она, совсем рядом, руку протяни, дышит, разглядывает меня внимательно, выжидает; еще помоет, небось, перед употреблением. Или уже помыла.
– Нет, так не пойдет, – твердо сказал я. – Ты давай не о бездне думай, а о себе. О том, кто ты такой. И что тебе теперь делать. Вариантов немного, выбирай.
«Выбирай» – это было ключевое слово. Я наконец понял, что все сейчас зависит от моего выбора. Как решу, так и будет. Вон когда захотел курить, сразу выбрал тот вариант реальности, в котором красный рюкзак с запасами табака – не сон, а единственная и неповторимая правда жизни. А теперь надо быть последовательным: если есть рюкзак, значит, я – его хозяин, а не умученный сивухой пузатый мужик. Так? Так или нет, я тебя спрашиваю?! А если так, ступай в коридор и посмотри на себя в зеркало. И только попробуй увидеть там не того, кого следует, я убью тебя, глупая, трусливая скотина, своими – твоими, конечно же, – руками, так и знай. Хватит уже трястись, пшел в коридор! Кому говорю?
Когда я увидел в зеркале знакомое лицо – перекошенное от ужаса, с белыми от ярости глазами и пятнами на скулах, но, бесспорно, мое – я не зарыдал от счастья, не завопил победительно, даже, кажется, не особо обрадовался, только тихонько вздохнул от облегчения, перевел дух – вот именно, лучше не скажешь, перевел стрелки духа, как переводят часы, вернувшись домой из далекого путешествия. Достал из рюкзака бутылку с водой, отпил несколько глотков и пошел в комнату. Осторожно, стараясь не шуметь, улегся на диван, обнял Лару, уткнулся губами в ее затылок, стал говорить почти беззвучно: «Завтра утром мы будем пить кофе на углу, стейки – это ладно, дело житейское, а кофе у них обалденный, и там к нему, знаешь, подают такие большие деревянные шкатулки с сахаром и специями, так здорово, нигде больше ничего подобного не видел. Тебе понравится – кофе, шкатулки и вообще все, поэтому спи спокойно, а завтра, пожалуйста, проснись рядом со мной, очень тебя прошу».
Я лежал без сна до рассвета, а когда взошло солнце, и стало совершенно очевидно, что никакой «прожорливой мировой бездны» за окном больше нет, только ясное небо, серый асфальт и цветные ромашки, окончательно успокоился и уснул, да так крепко, что Лара едва меня добудилась.
– Ну ты здоров спать, – с искренней завистью сказала она. – А мне всю ночь какая-то жуткая дрянь снилась, совершенно не помню, что именно, но точно дрянь, я та-а-ак обрадовалась, когда наконец проснулась, знал бы ты… И голова трещит, как будто мы с тобой весь вечер самогон жрали. Перегрелась я вчера, вот чего. И ты тоже, да? Выглядишь… скажем так, возвышено.
– Перегрелся, да, – согласился я. – Ничего, сейчас пойдем пить кофе в «Стейк-хаус». Они там…