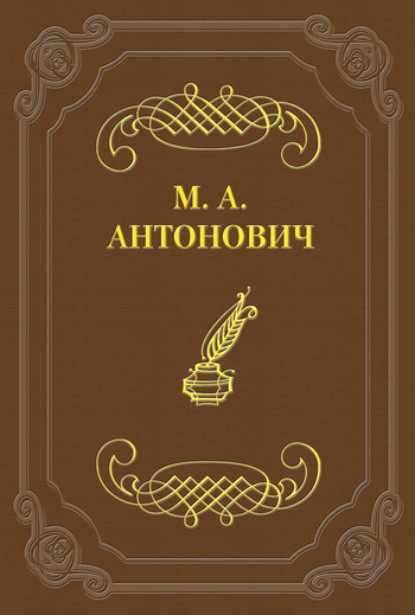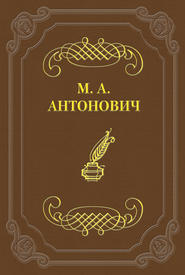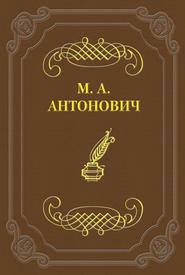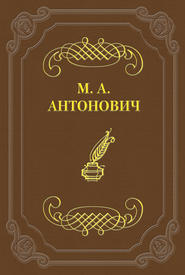По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Асмодей нашего времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет! – говорил он на следующий день Аркадию, – уеду отсюда завтра. Скучно; работать хочется, а здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в деревню; я же там все свои препараты оставил. У вас по крайней мере запереться можно. А здесь отец мне все твердит: „мой кабинет к твоим услугам – никто тебе мешать не будет“, а сам от меня ни на шаг. Да и совестно как-то от него запираться. Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней – и сказать ей нечего.
– Очень она огорчится, – промолвил Аркадий, – да и он тоже.
– Я к ним еще вернусь.
– Когда?
– Да вот как в Петербург поеду.
– Мне твою мать особенно жалко.
– Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?
Аркадий опустил глаза» (стр. 598).
Вот каковы (отцы! Они, в противоположность детям, проникнуты любовью и поэзией, они люди нравственные, скромно и втихомолку делающие добрые дела; они ни за что не хотят отстать от века. Даже такой пустой фат, как Павел Петрович, и тот поднят на ходули и выставлен человеком прекрасным. «Для него молодость прошла, но старость еще не наступила; он сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов». Это человек тоже с душой и поэзией; в юности он любил страстно, возвышенною любовью одну даму, «в которой было что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть, и что гнездилось в этой душе – бог весть», и которая много смахивает на г-жу Свечину. Когда она разлюбила его, он как бы умер для мира, но свято сохранил свою любовь, не влюбился в другой раз, «не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других, и ничего не предпринимал», и потому остался жить в деревне у брата. Но он жил не бесполезно, читал много, «отличался безукоризненною честностью», любил брата, помогал ему своими средствами и мудрыми советами. Когда, бывало, брат рассердится на мужичков и хочет их наказывать, Павел Петрович вступался за них и говорил ему: «du calme, du calme»[10 - Спокойствие, спокойствие (франц.).]. Он отличался любознательностью и всегда с самым напряженным вниманием следил за опытами Базарова, несмотря на то, что имел полное право ненавидеть его. Самым же лучшим украшением Павла Петровича была его нравственность. – Базарову понравилась Фенечка, «и Фенечке понравился Базаров»; «он однажды крепко поцеловал ее в раскрытые губы», чем и «нарушил все права гостеприимства» и все правила нравственности. «Сама же Фенечка хотя и уперлась обеими руками в его грудь, но уперлась слабо, и он мог возобновить и продлить свой поцелуй» (стр. 611). Павел же Петрович был даже влюблен в Фенечку, несколько раз приходил в ее комнату «ни за чем», несколько раз оставался с ней наедине; но он не был настолько низок, чтобы поцеловать ее. Напротив, он настолько был благоразумен, что из-за поцелуя подрался с Базаровым на дуэли, настолько благороден, что только однажды «прижал ее руку к своим губам, и так приник к ней, не целуя ее и только изредка судорожно вздыхая» (буквально так, стр. 625), и наконец настолько был самоотвержен, что сказал ей: «любите моего брата, не изменяйте ему ни для кого на свете, не слушайте ничьих речей»; и, чтоб долее не соблазняться Фенечкой, он уехал за границу, «где его можно видеть и теперь в Дрездене на Брюлевской террасе[11 - Брюлевская терраса – место гуляния и торжеств в Дрездене перед дворцом графа Генриха Брюля (1700–1763), министра Августа III, курфюрста саксонского.], между двумя и четырьмя часами» (стр. 661). И этот-то умный, солидный человек прегордо обращается с Базаровым, даже руки ему не дает, и до самозабвения погружается в заботы о франтовстве, умащает себя благовониями, щеголяет английскими костюмами, фесками и тугими воротничками, «с неумолимостью упиравшимися в подбородок»; ногти у него такие розовые и чистые, «хоть на выставку посылай». Ведь это все смешно, говорил Базаров, – и правда. Конечно, и неряшество нехорошо; но и излишние заботы о щегольстве показывают в человеке пустоту и отсутствие серьезности. Может ли такой человек быть любознательным, может ли он с своими благовониями, с белыми ручками и розовыми ногтями взяться серьезно за изучение чего-нибудь грязного или зловонного? Сам же г. Тургенев так выразился о своем любимце Павле Петровиче: «раз даже он приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зеленую пылинку». Экой подвиг, подумаешь; но если б под микроскопом лежала не инфузория, а какая-нибудь вещь – фи! – если б ее нужно было взять благовонными ручками, Павел Петрович отказался бы от своей любознательности; он даже не вошел бы в комнату к Базарову, если бы в ней был очень сильный медико-хирургический запах. И такого-то человека выдают за серьезного, жаждущего знаний; – что за противоречие такое! к чему неестественное сочетание свойств, исключающих одно другое, – пустоты и серьезности? Какой же вы, читатель, недогадливый; да это нужно было для тенденции. Припомните, что старое поколение уступает молодежи тем, что в нем «больше следов барства»; но это, конечно, неважность и пустяки; а в существе дела старое поколение ближе к истине и серьезнее молодого. Вот эта-то идея серьезности старого поколения с следами барства в виде лица, вымытого отличным снадобьем, и в тугих воротничках, и есть Павел Петрович. Этим же объясняются и несообразности в изображении характера Базарова. Тенденция требует: в молодом поколении меньше следов барства; в романе поэтому и говорится, что Базаров возбуждал к себе доверие в людях низших, они привязывались к нему и любили его, видя в нем не барина. Другая тенденция требует: молодое поколение ничего не смыслит, ничего не может сделать хорошего для отечества; роман и исполняет это требование, говоря, что Базаров не умел даже понятно говорить с мужиками, а не то чтоб еще возбудить к себе доверие; они и издевались над ним, видя в нем пожалованную ему автором глупость. Тенденция, тенденция испортила все дело, – «все француз гадит!»
Итак, высокие преимущества старого поколения пред молодым несомненны; но они будут еще несомненнее, когда мы рассмотрим подробнее качества «детей». Каковы же «дети»? Из тех «детей», которые выведены в романе, только один Базаров представляется человеком самостоятельным и неглупым; под какими влияниями сложился характер Базарова, из романа не видно; неизвестно также, откуда он заимствовал свои убеждения и какие условия благоприятствовали развитию его образа мыслей. Если б г. Тургенев подумал об этих вопросах, он непременно изменил бы свои понятия об отцах и детях. Г-н Тургенев ничего не сказал про то участие, какое могло принимать в развитии героя изучение естественных наук, составлявших его специальность. Он говорит, что герой принял известное направление в образе мыслей вследствие ощущения; что это значит – понять нельзя; но чтоб не оскорбить философской проницательности автора, мы видим в этом ощущении просто только поэтическую остроту. Как бы то ни было, мысли Базарова самостоятельны, они принадлежат ему, его собственной деятельности ума; он учитель; другие «дети» романа, глуповатые и пустые, слушают его и только бессмысленно повторяют его слова. Кроме Аркадия, таков, например. Ситников, которого автор при всяком удобном случае корит тем, что его «батюшка все по откупам». Ситников считает себя учеником Базарова и обязанным ему своим перерождением: «поверите ли, – говорил он, – что когда при мне Евгений Васильевич сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг… словно прозрел! Вот, подумал я, наконец нашел я человека!» Ситников рассказал учителю о Eudoxie Кукшиной, образчике современных дочерей. Базаров тогда только согласился отправиться к ней, когда ученик уверил его, что у нее будет много шампанского. Они отправились. «В передней встретила их какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце, – явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки», язвительно замечает г. Тургенев. Другие признаки состояли в следующем: «на столе валялись нумера русских журналов, большею частью неразрезанные; везде белели окурки папирос; Ситников развалился в креслах и задрал ногу кверху; разговор идет о Жорж-Занде и Прудоне; наши женщины дурно воспитаны; нужно изменить систему их воспитания; долой авторитеты; долой Маколея; Жорж-Занд, по словам Eudoxie, и не слыхивала об эмбриологии». Но самый главный признак такой:
«– Мы вот добрались, – сказал Базаров, – до последней капли.
– Чего? – перебила Евдоксия.
– Шампанского, почтеннейшая Авдотья Никитишна, шампанского – не вашей крови.
Завтрак продолжался долго. За первою бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая… Евдоксия болтала без умолку; Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак – предрассудок или преступление? и какие родятся люди – одинаковые или нет? и в чем, собственно, состоит индивидуальность? Дело дошло наконец до того, что Евдоксия, вся красная от выпитого вина (фи!) и стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепиано, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом романс Сеймур-Шиффа: „Дремлет сонная Гренада“[12 - «Дремлет сонная Гренада» – неточная строка из романса «Ночь в Гренаде», музыка Г. Сеймура-Шиффа на слова К. Тарковского. Последующее двустишие – строки того же романса, неточно приведенные у Тургенева.], а Ситников повязал голову шарфом и представлял замирающего любовника, при словах:
И уста твои с моими
В поцелуй горячий слить!
Аркадий не вытерпел наконец. „Господа, уж это что-то на Бедлам похоже стало“, заметил он вслух. Базаров, который лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово – он занимался больше шампанским, – громко зевнул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников выскочил вслед за ними» (стр. 536–537). – Затем Кукшина «попала за границу. Она теперь в Гейдельберге; по-прежнему якшается с студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которые удивляют профессоров своим совершенным бездействием и абсолютною ленью» (стр. 662).
Браво, молодое поколение! отлично подвизается за прогресс; и какое же сравнение с умными, добрыми и нравственно-степенными «отцами»? Даже лучший представитель его оказывается пошлейшим господином. Но все-таки он лучше других; он говорит с сознанием и высказывает собственные суждения, ни от кого не заимствованные, как оказывается из романа. Мы и займемся теперь этим лучшим экземпляром молодого поколения. Как сказано выше, он представляется человеком холодным, неспособным к любви, ни даже к самой обыкновенной привязанности; даже женщину он не может любить поэтическою любовью, которая так привлекательна в старом поколении. Если, по требованию животного чувства, он и полюбит женщину, то полюбит одно только тело ее; душу в женщине он даже ненавидит; он говорит, «что ей совсем и понимать не нужно серьезной беседы и что свободно мыслят между женщинами только уроды». Эта тенденция в романе олицетворяется следующим образом. На бале у губернатора Базаров увидел Одинцову, которая поразила его «достоинством своей осанки»; он и влюбился в нее, то есть, собственно, не влюбился, а почувствовал к ней какое-то ощущение, похожее на злобу, которое г. Тургенев старается охарактеризовать такими сценами:
«Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительною дурью. – „Нравится тебе женщина, – говорил он, – старайся добиться толку, а нельзя – ну, не надо, отвернись – земля не клином сошлась“». «Одинцова ему нравилась», следовательно…
«– Мне сейчас сказывал один барин, – говорил Базаров, обращаясь к Аркадию, – что эта госпожа – ой, ой; да барин, кажется, дурак. Ну, а по-твоему, что она, точно – ой-ой-ой?
– Я этого определенья не совсем понимаю, – отвечал Аркадий.
– Вот еще! Какой невинный!
– В таком случае я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила – бесспорно, но она так холодно и строго себя держит, что…
– В тихом омуте… ты знаешь! – подхватил Базаров. – Ты говоришь, она холодна. В этом-то самый вкус и есть. Ведь ты любишь мороженое.
– Может быть, – пробормотал Аркадий, – я об этом судить не могу.
– Ну? – говорил Аркадий ему на улице: – ты все того же мнения, что она – ой-ой-ой?
– А кто ее знает! Вишь, как она себя заморозила, – возразил Базаров и, помолчав немного, прибавил: – герцогиня, владетельная особа. Ей бы только шлейф сзади носить да корону на голове.
– Наши герцогини так по-русски не говорят, – заметил Аркадий.
– В переделке была, братец ты мой, нашего хлеба покушала.
– А все-таки она прелесть, – промолвил Аркадий.
– Эдакое богатое тело! – продолжал Базаров, – хоть сейчас в анатомический театр.
– Перестань, ради бога, Евгений! это ни на что не похоже.
– Ну, не сердись, неженка. Сказано – первый сорт. Надо будет поехать к ней» (стр. 545). «Базаров встал и подошел к окну (в кабинете Одинцовой, наедине с нею).
– Вы желали бы знать, что во мне происходит?
– Да, – повторила Одинцова, с каким-то ей еще непонятным испугом.
– И вы не рассердитесь?
– Нет.
– Нет? – Базаров стоял к ней спиной. – Так знайте же, что я люблю вас глупо, безумно… Вот чего вы добились.
Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался: все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая, – страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей… Одинцовой стало и страшно и жалко его. (– Евгений Васильевич, – проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе.
Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор – и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь…
Она не тотчас освободилась из его объятий; но мгновенье спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова» (догадалась, в чем дело).
«Он рванулся к ней…
– Вы меня не поняли, – прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула… Базаров закусил губы и вышел» (туда ему и дорога).
«Она до обеда не показывалась, и все ходила взад и вперед по своей комнате, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно (должно быть, мерзкий поцелуй Базарова). Он выспрашивала себя, что заставляло ее „добиваться“, по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь… „Я виновата, – промолвила она вслух, – но я это не могла предвидеть“. Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней».
Вот несколько черт тургеневской характеристики «детей», черты действительно неказистые и не лестные для молодого поколения, – что же делать? С ними нечего было бы делать и нечего было бы сказать против них, если бы роман г. Тургенева был обличительного повестью в модерантивном духе[13 - …в модерантивном духе… – в духе умеренного прогресса. Модерантистами называли в эпоху Великой французской революции жирондистов. Здесь имеется в виду либерально-обличительное направление в литературе и журналистике.], то есть вооружался бы против злоупотреблений дела, а не против его сущности, как, например, в повестях взяточных восставали не против чиновничества, а только против злоупотреблений чиновничьих, против взяток; само же чиновничество оставалось неприкосновенным; были дурные чиновники, их и обличали. В этом случае смысл романа-вот какие «дети» попадаются иногда! – был бы непоколебим. Но, судя по тенденциям романа, он принадлежит к форме обличительной, радикальной и походит на повести, положим, откупные, в которых выражалась мысль об уничтожении самого откупа, не только его злоупотреблений; смысл романа, как мы уже заметили выше, совершенно другой – вот как дурны «дети»! Но возражать и против такого смысла в романе как-то неловко; пожалуй, обличат в пристрастии к молодому поколению, а что еще хуже, станут укорять в недостатке самообличения. Поэтому пускай кто хочет защищает молодое поколение, только не мы. Вот женское молодое поколение, это другое дело; тут мы в стороне, и никакое самовосхваление и самообличение невозможно. – Вопрос о женщинах «поднят» недавно, на наших глазах и без ведома г. Тургенева; «поставлен» он совершенно неожиданно, и для многих почтенных господ, как, например, для «Русского вестника», был совершеннейшим сюрпризом, так что этот журнал, по поводу безобразного поступка прежнего «Века»[14 - В № 8 за 1861 год журнал «Век» опубликовал статью Камня-Виногорова (псевдоним П. Вейнберга) «Русские диковинки», направленную против эмансипации женщин. Статья вызвала ряд протестов демократической печати, в частности выступление М. Михайлова в «С.-Петербургских ведомостях» – «Безобразный поступок „Века“» (1861, № 51, 3 марта). «Русский вестник» откликнулся на эту полемику анонимной статьей в отделе «Литературное обозрение и заметки» под заглавием «Наш язык и что такое свистуны» (1862, № 4), где поддерживал позицию «Века» против демократической печати.], с недоумением спрашивал: о чем хлопочут русские женщины, чего им недостает и чего они хотят? Женщины, к удивлению почтенных господ, отвечали, что они хотят, между прочим, учиться тому, чему учат мужчин, учиться не в пансионах и институтах, а в других местах. Нечего делать, открыли для них гимназию; нет, говорят они, и этого мало, подавай нам больше; они захотели «покушать нашего хлеба», не в грязном смысле г. Тургенева, а в смысле того хлеба, которым живет развитой, разумный человек. Дали ли им больше и взяли ли они больше, – это с точностью неизвестно. А действительно есть и такие эмансипированные женщины, как Eudoxie Кукшина, хотя все-таки, может быть, не напиваются шампанским; болтают же так точно, как и она. Но и при этом нам кажется несправедливостью выставлять ее как образчик современной эмансипированной женщины с прогрессивными стремлениями. Г-н Тургенев, к сожалению, наблюдает отечество из прекрасного далека; вблизи он бы увидал женщин, которых с большей справедливостью можно было бы изобразить вместо Кукшиной как экземпляры современных дочерей. Женщины, особенно в последнее время, довольно часто стали появляться в разных школах в качестве учительниц безмездных, а в более ученых – в качестве учениц. Вероятно, и у них, г. Тургенев, возможна настоящая любознательность и действительная потребность знания. Иначе что же за охота была бы им таскаться и просиживать по нескольку часов где-нибудь в душных и неблаговонных классах и аудиториях, вместо того чтоб пролежать это время где-нибудь в более комфортабельном месте, на мягких диванах, и любоваться Татьяной Пушкина или хоть вашими произведениями? Павел Петрович, по вашим же словам, удостоил поднести умащенное снадобьями лицо к микроскопу; а некоторые из живых дочерей считают за честь для себя поднести свое неумащенное лицо к вещам, которые еще более – фи! чем микроскоп с инфузориями. Случается, что под руководством какого-нибудь студента молодые девицы собственными руками, понежнее ручек Павла Петровича, разрезывают неблаговонный труп и даже смотрят на операцию литотомии[15 - Литотомия – операция по удалению камней из мочевого пузыря.]. Это чрезвычайно непоэтично и даже мерзко, так что всякий порядочный человек из породы «отцов» плюнул бы по этому случаю; а «дети» смотрят на это дело чрезвычайно просто; что же тут такого дурного, говорят они. Все это, может быть, редкие исключения, и в большинстве случаев молодое женское поколение руководится в своих прогрессивных действиях форсом, кокетством, фанфаронством и т. д. Не спорим; очень возможно и это. Но ведь разница в предметах неблаговидной деятельности дает различное значение и самой неблаговидности. Иной, например, для шику и по капризу бросает деньги в пользу бедных; а другой так же точно для шику и по капризу колотит свою прислугу или подчиненных. И в том и в другом случае один каприз; а разница между ними большая; и на какой из этих капризов художники должны тратить больше остроумия и желчи в литературных обличениях? Ограниченные меценаты литературы, конечно, смешны; но во сто раз смешнее, а главное, презреннее меценаты парижских гризеток и камелий. Это соображение можно приложить и к рассуждениям о женском молодом поколении; гораздо лучше форсить книгой, чем кринолином, кокетничать с наукой, чем с пустыми франтами, фанфаронить на лекциях, чем на балах. Это изменение предметов, на которые направлено кокетство и фанфаронство дочерей, очень характеристично и представляет дух времени в очень выгодном свете. Подумайте, пожалуйста, г. Тургенев, что это все значит и отчего это прежнее женское поколение не форсило на учительских креслах и ученических скамейках, отчего ему и в голову не приходило забираться в аудитории и якшаться с студентами, хоть бы по капризу, отчего для его сердца был всегда милее образ гвардейца с усиками, чем вид студента, о жалком существовании которого оно едва ли и догадывалось? Отчего произошла такая перемена в женском молодом поколении и что тянет его к студентам, к Базарову, а не к Павлу Петровичу? «Это все от моды пустой», – скажет г. Костомаров, которого ученым словесам жадно внимало и женское молодое поколение. Да отчего же мода-то именно такая, а не другая? Прежде в женщинах было «что-то заветное, куда никто не мог проникнуть». Но что же лучше – заветность и непроницаемосгь или любознательность и охота к ясности, к учению? и над чем следует больше посмеяться? Впрочем, не нам учить г. Тургенева; мы сами лучше поучимся у него. Он изобразил Кукшину в смешном виде; но его Павел Петрович, лучший представитель старого поколения, гораздо смешнее, ей-богу. Представьте себе, живет в деревне барин, уже приближающийся к старости, и все свое время убивает на то, чтоб мыться да чиститься; ногти у него розовые, вычищенные до ослепительного блеска, белоснежные рукавчики с крупными опалами; в различные времена дня он одевается в различные костюмы; почти ежечасно он переменяет галстучки, один другого лучше; благовониями несет от него на целую версту; даже в разъездах он возит с собой «серебряный несессер и походную ванну»; это Павел Петрович. А вот в губернском городе живет молодая женщина, принимает к себе молодых людей; но, несмотря на это, она не слишком заботится о своем костюме и туалете, – чем г. Тургенев думал унизить ее в глазах читателей. Ходит она «несколько растрепанная», «в шелковом, не совсем опрятном платье», бархатная шубка ее «на пожелтелом горностаевом меху»; и в то же время почитывает кое-что из физики и химии, читает статьи о женщинах, хоть с грехом пополам, а все-таки рассуждает о физиологии, эмбриологии, о браке и проч. Все это неважно; но все же она не назовет эмбриологии английской королевой, а, пожалуй, скажет даже, что это за наука такая и чем она занимается, – и то хорошо. Все-таки Кукшина не так пуста и ограниченна, как Павел Петрович; все-таки ее мысли обращены на предметы более серьезные, чем фески, галстучки, воротнички, снадобья и ванны; а этим она видимо пренебрегает. Она выписывает журналы, но не читает и даже не разрезывает их, а все-таки это лучше, чем выписывать жилеты из Парижа и утренние костюмы из Англии, подобно Павлу Петровичу. Спрашиваем самых что ни на есть рьяных поклонников г. Тургенева: какой из этих двух личностей они дадут преимущество и кого они сочтут более достойным литературного осмеяния? Только несчастная тенденция заставила его самого поднять на ходули своего любимца и осмеять Кукшину. Кукшина действительно смешна; за границей она якшается с студентами; но все же это лучше, чем показывать себя на Брюлевской террасе между двумя и четырьмя часами, и гораздо простительнее, чем почтенному престарелому человеку якшаться с парижскими танцовщицами и певицами[16 - Прямой намек на отношения Тургенева с Полиной Виардо. В рукописи статьи фраза заканчивается так: «хотя бы даже с самой Виардо».]. Вы, г. Тургенев, осмеиваете стремления, которые бы заслуживали поощрения и одобрения со стороны всякого благомыслящего человека, – мы не имеем здесь в виду стремления к шампанскому. И без того много терний и препятствий встречают на пути молодые женщины, желающие учиться посерьезнее; и без того злоязычные сестры их колют им глаза «синими чулками»; и без вас у нас есть много тупых и грязных господ, которые тоже, подобно вам, укоряют их за растрепанность и отсутствие кринолинов, издеваются над их нечистыми воротничками и над их ногтями, не имеющими той хрустальной прозрачности, до которой довел свои ногти ваш милый Павел Петрович. Довольно бы и этого; а вы еще напрягаете свое остроумие на придумывание для них новых оскорбительных прозвищ и хотите пустить в ход Eudoxie Кукшину. Или вы в самом деле думаете, что эмансипированные женщины хлопочут только о шампанском, папиросках и студентах или об нескольких единовременных мужьях, как воображает ваш собрат по искусству г. Безрылов? Это еще хуже, потому что набрасывает невыгодную тень на вашу философскую сообразительность; но и другое – насмешки – тоже хорошо, потому что заставляет сомневаться в вашей симпатии всему разумному и справедливому. Мы лично расположены в пользу первого предположения.
Молодое поколение мужское мы защищать не станем; оно действительно таково и есть, каким изображено в романе. Так точно мы соглашаемся, что и старое поколение нисколько не разукрашено, а представлено так, как оно есть на самом деле со всеми его почтенными качествами. Мы только не понимаем, почему г. Тургенев дает предпочтение старому поколению; молодое поколение его романа нисколько не уступает старому. Качества у них различны, но одинаковы по степени и достоинству; каковы отцы, таковы и дети; отцы = детям – следы барства. Мы не будем защищать молодого поколения и нападать на старое, а только попытаемся доказать верность этой формулы равенства. – Молодежь отталкивает от себя старое поколение; это весьма нехорошо, вредно для дела и не делает чести молодежи. Но отчего же старое поколение, более благоразумное и опытное, не принимает мер против этого отталкивания и почему оно не старается привлечь к себе молодежь? Николай Петрович человек солидный, умный, желал сблизиться с молодым поколением, но, услыхав, как мальчишка назвал его отставным, он разрюмился, стал оплакивать свою отсталость и сразу сознал бесполезность своих усилий не отстать от века. Что за слабость такая? Если он сознавал свою справедливость, если он понимал стремления молодежи и сочувствовал им, то ему легко было бы привлечь на свою сторону сына. Базаров мешал? Но как отец, связанный с сыном любовью, он мог бы легко победить влияние на него Базарова, если б имел на это охоту и уменье. А в союзе с Павлом Петровичем, непобедимым диалектиком, он мог бы обратить даже самого Базарова; ведь только стариков учить и переучивать трудно, а юность очень восприимчива и подвижна, и нельзя же думать, чтобы Базаров отказался от истины, если бы она ему была показана и доказана? Г-н Тургенев с Павлом Петровичем истощили все свое остроумие в спорах с Базаровым и не скупились на резкие и оскорбительные выражения; однако Базаров не разрюмился, не смутился и остался при своих мнениях, несмотря на все возражения противников; должно быть, потому, что возражения были плохи. Итак, «отцы» и «дети» одинаково правы и виноваты во взаимном отталкивании; «дети» отталкивают отцов, а эти пассивно отходят от них и не умеют привлечь их к себе; равенство полное. – Далее, молодежь мужская и женская кутит и пьет; это она нехорошо делает, защищать ее нельзя. Но кутежи старого поколения были гораздо величественнее и размашистее; сами же отцы часто говорят молодежи: «нет, не пить вам так, как пивали мы во время оно, когда были молодым поколением; мы как простую воду пили мед и крепкое вино». И действительно, единодушно признано всеми, что настоящее молодое поколение кутит менее, чем прежнее. Во всех учебных заведениях между учащими и учащимися сохраняются предания о гомерических кутежах и попойках прежней молодежи, соответствующей нынешним отцам; даже в alma mater[17 - Старинное студенческое название университета, буквально кормящая мать (лат.).], московском университете, зачастую случались сцены, описанные г. Толстым в воспоминаниях об его юности[18 - «Воспоминаниями» Л. Толстого о юности Антонович называет его повесть «Юность» – третью часть автобиографической трилогии. В главе XXXIX («Кутеж») описаны сцены безудержного кутежа студентов-аристократов.]. Но, с другой стороны, сами же учащие и начальствующие находят, что прежнее молодое поколение отличалось зато большею нравственностью, бо?льшим повиновением и уважением к начальству и вовсе не имело того строптивого духа, которым проникнуто нынешнее поколение, хоть оно и меньше кутит и дебоширствует, как уверяют сами же начальствующие. Итак, недостатки у обоих поколений совершенно равны; прежнее не толковало о прогрессе, правах женщин, но кутило на славу; нынешнее кутит меньше, но азартно кричит в пьяном виде – долой авторитеты, и отличается от прежнего безнравственностью, неуважением к законности издевается даже над о. Алексеем. Одно другого стоит, и трудно отдать кому-нибудь предпочтение, как сделал г. Тургенев. Опять-таки и в этом отношении равенство между поколениями полное. – Наконец, как видно из романа, молодое поколение не может любить женщину или любит ее глупо, безумно. Прежде всего оно смотрит на тело женщины; если тело хорошо, если оно «эдакое богатое», тогда женщина нравится молодым людям. А коль скоро женщина понравилась им, они «стараются только добиться толку», и больше ничего. И это все, конечно, скверно и свидетельствует о бездушии и цинизме молодого поколения; нельзя отрицать этого качества в молодом поколении. Как поступало в делах любви старое поколение, «отцы», – этого мы с точностью определить не можем, так как это было по отношению к нам во времена доисторические; но, судя по некоторым геологическим фактам и животным остаткам, к числу которых относится и наше собственное существование, можно догадываться, что все без исключения «отцы», все усердно «добивались толку» от женщин. Потому что, кажется, можно сказать с некоторою вероятностью, что если бы «отцы» любили женщин не глупо и не добивались толку, то они не были бы отцами и существование детей было бы невозможно. Таким образом и в любовных отношениях «отцы» поступали так же точно, как поступают теперь дети. Эти априористические суждения могут быть неосновательны и даже ошибочны; но они подтверждаются несомненными фактами, представляемыми самим романом. Николай Петрович, один из отцов, любил Фенечку; как началась и к чему привела эта любовь? «По воскресеньям в приходской церкви он замечал тонкий профиль ее беленького лица» (в храме божьем такому солидному человеку, как Николай Петрович, неприлично развлекать себя подобными наблюдениями). «Однажды у Фенечки заболел глаз; Николай Петрович вылечил его, за что Фенечка хотела поцеловать ручку у барина; но он не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову». После этого «ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо; он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки. Он начал с большим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею» (опять почтенный человек, подобно мальчишке, зевает в церкви на молоденькую девушку; какой нехороший пример для детей! Это равняется неуважению, какое оказывал Базаров к о. Алексею, а пожалуй, еще и хуже). Итак, чем же Фенечка прельстила Николая Петровича? Тонким профилем, беленьким лицом, мягкими волосами, губами и жемчужными зубками. А все эти предметы, как известно всякому, даже не знающему анатомии подобно Базарову, составляют части тела и вообще могут быть названы телом. Базаров при виде Одинцовой говорил: «эдакое богатое тело»; Николай Петрович при виде Фенечки не говорил – г. Тургенев запретил ему говорить, – а думал: «какое миленькое и беленькое тельце!» Разница, как согласится всякий, не очень большая, то есть, в сущности, нет никакой. Далее Николай Петрович не посадил же Фенечку под стеклянный прозрачный колпак и не любовался ею издали, спокойно, без трепетания в теле, без злобы и с сладким ужасом. Но – «Фенечка была так молода, так одинока, Николай Петрович был такой добрый и скромный… (точки в подлиннике). Остальное нечего досказывать». Ага! вот в том-то и вся штука, в том-то и несправедливость ваша, что в одном случае вы преподробно «досказываете остальное», а в другом – говорите, что нечего досказывать. Дело Николая Петровича вышло так невинно и мило оттого, что оно было закрыто двойной поэтической вуалью и фразы употреблены более неясные, чем при описании любви Базарова. Вследствие этого в одном случае вышел поступок нравственный и благопристойный, а в другом – грязный и неприличный. Позвольте-ка нам «досказать остальное» и относительно Николая Петровича. Фенечка так боялась барина, что однажды, по свидетельству г. Тургенева, спряталась в высокую густую рожь, чтобы только не попасться ему на глаза. И вдруг ее зовут однажды к барину в кабинет; бедняжка перепугалась и вся дрожала как в лихорадке; однако пошла, – нельзя же было ослушаться барина, который мог прогнать ее из своего дома; а вне его она не знала никого, и ей угрожала голодная смерть. Но на пороге кабинета она остановилась, собрала все свое мужество, уперлась и ни за что не хотела войти. Николай Петрович нежно взял ее за ручки и потащил к себе, лакей толкнул ее сзади и захлопнул за ней дверь. Фенечка «уперлась лбом в стекло окна» (припомните сцену Базарова с Одинцовой) и стояла как вкопанная. Николай Петрович задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не «трепетание юношеской робости», потому что он был уже далеко не юноша, не «сладкий ужас первого признания» овладел им, потому что первое признание было перед покойницей женой: несоменно, стало быть, это «страсть в нем билась, сильная и тяжелая страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей». Фенечке стало еще более страшно, чем Одинцовой с Базаровым; Фенечка вообразила, что барин съест ее, чего не могла вообразить опытная вдова Одинцова. «Я тебя люблю, Фенечка, люблю глупо, безумно», – проговорил Николай Петрович, быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор – и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь. Она, несмотря на все усилия, не могла высвободиться из его объятий… Несколько мгновений спустя Николай Петрович сказал, обращаясь к Фенечке: «Ты меня не понимала?» – «Да, барин, – отвечала она, всхлипывая и отирая слезы, – не понимала; что вы со мной наделали?» Остальное нечего досказывать. У Фенечки родился Митя, да еще до законного брака; значит, был незаконным плодом безнравственной любви. Значит, и у «отцов» любовь возбуждается телом и оканчивается «толком» – Митей и вообще детьми; значит, и в этом отношении полное равенство между старым и молодым поколением. Сам Николай Петрович сознавал это и чувствовал всю безнравственность своих отношений к Фенечке, стыдился их и краснел перед Аркадием. Чудак же он; если он признавал свой поступок незаконным, то не следовало бы ему и решаться на него. А если решился, то нечего же краснеть и извиняться. Аркадий, видя эту непоследовательность отца, и прочитал ему «нечто вроде наставления», которым обиделся отец совершенно несправедливо. Аркадий видел, что отец сделал дело и практически показал, что он разделяет убеждения сына и его друга; потому и уверял, что дело отца не предосудительно. Если б Аркадий знал, что отец не согласен с его взглядами на это дело, он бы прочитал ему другое наставление, – зачем же ты, папаша, решаешься на дело безнравственное, противное твоим убеждениям? – и был бы прав. Николай Петрович не хотел жениться на Фенечке вследствие влияния следов барства, потому что она была ему неровня и, главное, потому, что боялся своего братца, Павла Петровича, у которого было еще больше следов барства и который, однако ж, тоже имел виды на Фенечку. Наконец Павел Петрович решился уничтожить в себе следы барства и сам потребовал, чтобы брат женился. «Женись на Фенечке… Она тебя любит; она – мать твоего сына». – «Ты это говоришь, Павел? – ты, которого я считал противником подобных браков! Но разве ты не знаешь, что единственно из уважения к тебе я не исполнил того, что ты так справедливо назвал моим долгом». – «Напрасно ж ты уважал меня в этом случае, – отвечал Павел, – я начинаю думать, что Базаров был прав, когда упрекал меня в аристократизме. Нет, полно нам ломаться и думать о свете; пора нам отложить в сторону всякую суету» (стр. 627), то есть следы барства. Таким образом, «отцы» сознали наконец свой недостаток и отложили его в сторону, чем и уничтожили единственное различие, существовавшее между ними и детьми. Итак, наша формула видоизменяется так: «отцы» – следы барства = «дети» – следы барства. Отняв от равных величин равные, получим: «отцы» = «детям», что и требовалось доказать.
Этим мы и покончим с личностями романа, с отцами и детьми, и обратимся к философской стороне, к тем воззрениям и направлениям, которые изображаются в нем и которые составляют принадлежность не молодого поколения только, а разделяются большинством и выражают общее современное направление и движение. – Как видно по всему, г. Тургенев взял для изображения настоящий и, так сказать, сегодняшний период нашей умственной жизни и литературы, и вот какие черты открыл в нем. Из разных мест романа мы соберем их вместе. Прежде, видите ли, были гегелисты, а теперь, в настоящее время, явились нигилисты. Нигилизм – философский термин, имеющий разные значения; г. Тургенев определяет его следующим образом: «Нигилистом называется тот, который ничего не признает; который ничего не уважает; который ко всему относится с критической точки зрения; который не склоняется ни перед какими авторитетами; который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип. Прежде без принсипов, принятых на веру, шагу ступить не могли; теперь же не признают никаких принципов. Не признают искусства, не верят в науку и говорят даже, что наука вообще не существует. Теперь все отрицают; а строить не хотят; говорят, это не наше дело; сперва нужно место расчистить.
– Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда.
– А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно от того, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке. Мы решились ни за что не приниматься, а только ругаться. И это называется нигилизмом. – Мы ломаем все, не зная почему; а просто потому, что мы сила. На это отцы возражают: и в диком калмыке и в монголе есть сила – да на что нам она? Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам бы только в калмыцкой кибитке сидеть! Сила! Да вспомните наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а тех миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас» (стр. 521).
Вот коллекция современных воззрений, вложенных в уста Базарову; что они такое? – карикатура, утрировка, происшедшие вследствие непонимания, и больше ничего. Автор направляет стрелы своего таланта против того, в сущность чего он не проник. Он слышал разнообразные голоса, видал новые мнения, наблюдал оживленные споры, но не мог добраться до внутреннего смысла, и потому в своем романе он коснулся одних только верхушек, одних слов, которые, произносились вокруг него; понятия же, соединенные в этими словами, остались для него загадкою. Он не знает даже точно заглавия той книги, на которую, он указывает как на кодекс современных воззрений; что же сказал бы он, если б его спросили о содержании книги. Вероятно, ответил бы только, что она не признает различия между лягушкой и человеком. В своем простодушии он вообразил, что понял бюхнерово Kraft und Stoff, что в нем заключается последнее слово современной премудрости и что он, значит, понял современную премудрость всю, как она есть. Простодушие наивное, но извинительное в художнике, преследующем цели чистого искусства для искусства. Все его внимание обращено на то, чтобы увлекательно нарисовать образ Фенечки и Кати, описать мечтания Николая Петровича в саду, изобразить «ищущую, неопределенную, печальную тревогу и беспричинные слезы». Дело вышло бы недурно, если бы он только этим и ограничился. Художественно разбирать современный образ мыслей и характеризовать направления ему не следовало бы; он или вовсе не понимает их, или понимает по-своему, по-художнически, поверхностно и неверно; и из олицетворения их составляет роман. Такое художество действительно заслуживает если не отрицания, то порицания; мы вправе требовать, чтобы художник понимал то, что он изображает, чтобы в его изображениях, кроме художественности, была и правда, и чего он не в состоянии понять, за то и не должен приниматься. Г-н Тургенев недоумевает, как можно понимать природу, изучать ее и в то же время любоваться ею и наслаждаться поэтически, и поэтому говорит, что современное молодое поколение, страстно преданное изучению природы, отрицает поэзию природы, не может любоваться ею, «для него природа не храм, а мастерская». Николай Петрович любил природу, потому что смотрел на нее безотчетно, «предаваясь горестной и отрадной игре одиноких дум», и чувствовал только тревогу. Базаров же не мог любоваться природой, потому что в нем не играли неопределенные думы, а работала мысль, старавшаяся понять природу; он ходил по болотам не с «ищущей тревогой», а с целью собирать лягушек, жуков, инфузорий, чтобы потом резать их и рассматривать под микроскопом, а это убивало в нем всякую поэзию. Но между тем самое высшее и разумное наслаждение природой возможно только при ее понимании, когда на нее смотрят не с безотчетными думами, а с ясными мыслями. В этом убедились «дети», наученные самими же «отцами» и авторитетами. Были люди, которые изучали природу и наслаждались ею; понимали смысл ее явлений, знали движение волн и трав прозябанье, читали звездную книгу[19 - Имеется в виду Гете. Вся эта фраза – прозаический пересказ некоторых строк стихотворения Баратынского «На смерть Гете».] ясно, научно, без мечтательности, и были великими поэтами. Можно нарисовать неверную картину природы, можно, например, сказать, подобно г. Тургеневу, что от теплоты солнечных лучей «стволы осин становились похожи на стволы сосен, и листва их почти посинела»; может, и выйдет из этого картина поэтическая и ею залюбуется Николай Петрович или Фенечка. Но для истинной поэзии этого недостаточно; требуется еще, чтобы поэт изображал природу верно, не фантастически, а так, как она есть; поэтическое олицетворение природы – статья особого рода. «Картины природы» могут быть самым точным, самым ученым описанием природы и могут производить поэтическое действие; картина может быть художественною, хотя она нарисована до того верно, что ботаник может изучать на ней расположение и форму листьев в растениях, направление их жилок и виды цветов. Это же правило применяется и к художественным произведениям, изображающим явления человеческой жизни. Можно сочинить роман, представить в нем «детей» похожими на лягушек и «отцов» похожими на осин, перепутать современные направления, перетолковать чужие мысли, взять понемногу из разных воззрений и сделать из всего этого кашу и винегрет под названием «нигилизма», представить эту кашу в лицах, чтоб каждое лицо представляло собою винегрет из самых противоположных, несообразных и неестественных действий и мыслей; и при этом эффектно описать дуэль, милую картину любовных свиданий и трогательную картину смерти. Кому угодно, тот может любоваться этим романом, находя в нем художественность. Но эта художественность исчезает, сама себя отрицает при первом прикосновении мысли, которая открывает в ней недостаток правды и жизни, отсутствие ясного понимания.