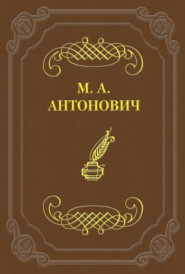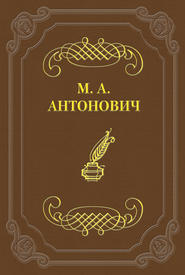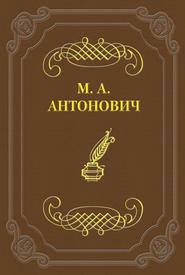По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Стрижам
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пожалуйста, уволь; докажи лучше на бумаге и потом пришли в виде письма ко мне для напечатания в «Юпке»; я сам не могу решительно ничего сочинить; все мои направления отняты у меня, все ресурсы истощились, вычитать ничего не могу и собственным умом ничего не поделаю; будь друг, помоги своими письмами, да нет ли у тебя там какого-нибудь старья, знаешь, в старинных журналах, что можно было бы перепечатать?
– О, я сочинил целое направление – «органический».
– Никем еще не осмеяно?
– Никем решительно, недавно только сочинил. СТРИЖАМ…
– О друг, – воскликнул Сысоевский: – я бы поцеловал тебя, но у тебя столько слюны на усах и бороде. Но погоди, я сделаю тебе большое удовольствие. Нетопырь, принеси водки!
Водка была принесена; Бельведерский пил ее, Сысоевский и Тряпица сидели, смотрели на него и радовались. Потом снова задумались, взглянули друг на друга и увидели один у другого на лбу блестящими литерами написанное слово, которое так осторожно обходил в своих речах Сысоевский. Они вздрогнули и поспешили расстаться.
Этим и кончается роман… Вероятно, некоторые черты его заимствованы из действительности, потому что в журнале «Эпоха» была в самом деле помещена статья под заглавием «Ерунда органической критики», изложенная в виде письма к г. Достоевскому. Впрочем, это только моя догадка, на которой я не настаиваю. – Затем, возвратимтесь опять к прерванному обучению стрижей.
Вы, обер-стриж, перепечатали из «Русского Слова» одно жалкое место, касающееся сотрудника «Современника»; я тоже перепечатываю из «Русского Вестника» несколько выдержек, касающихся вашего сотрудника и вас всех, и делаю это с тою же целью, с какою и вы делали. Вот что говорит о вас «Русский Вестник».
«А вот вам человек, не имеющий в душе своей ни малейшего дурного умысла, но и не имеющий почвы под ногами, хотя беспрерывно твердящий о почве», – СТРИЖАМ… вот этот человек, думая совершить гражданское дело, совершает действие, приводящее всех в негодование.
Г. Страхов (один из главных стрижей) известен многими статьями философского и критического содержания и предпринятым им переводом сочинения немецкого профессора Куно Фишера об истории новейшей философии. Г. Страхов был постоянным противником того пошлого материализма с задорными ухватками, который распространился было в нашей литературе. Деятельность его в этом отношении была настолько успешна, что явственно отделила его от грязных кружков петербургской журналистики, которые относились к нему с ожесточением и злобою, что могло бы льстить его самолюбию, если бы только чье-нибудь самолюбие могло придавать значение людям этого сорта. (Видите, «Русский Вестник» относится к вам с сочувствием, он друг ваш, и, однакож, посмотрите, что он говорит о вас, и для него истина дороже дружбы.) Но, к сожалению, статьи его всегда заключали в себе что-то туманное и неопределенное и как будто ничем не оканчивались. В них чувствовалась мысль добрая по своему настроению, но воспитанная в праздных отвлеченностях, в бесплодном схематизме понятий. Г. Страхов, как сказано, занимается философией и храбро причисляет себя к последователям гегелевской философии, давно умершей, похороненной и всеми забытой. Не печальное ли это явление? Люди занимаются, сами не зная чем, сами не зная зачем.
С гегелевскою философией у г. Страхова соединилось еще какое-то особого рода славянофильство, состоящее в искании каких-то начал народных, ни на что не похожих, нигде не существующих, но долженствующих откуда-то прилететь, – в искании какой-то почвы, – словом, в повторении того, что так словообильно говорится у нас везде, где только возникает речь о материях важных.
Народные начала! Коренные основы! А что такое эти начала? Что такое эти основы? Где их взять? Что за зверь эти начала и эти основы? Представляется ли вам, господа, что-нибудь совершенно ясное при этих словах? Коль скоро вы, по совести, должны сознаться, что при этих и подобных словах в голове вашей не рождается столь же ясных и определенных понятий, как при имени хорошо известного вам предмета, то бросьте эти слова, не употребляйте их и заткните уши, когда вас будут потчевать ими. Лучший способ стать дельным человеком – не выходить из круга ясных понятий, как бы ни был он тесен. Задача умственного образования в том главным образом и состоит, чтобы человек с совершенною точностью чувствовал и знал, что такое знать, что такое понимать, и не мог смешивать с действительною мыслью всякое праздное возбуждение ума, ту темную игру представлений, которая ничем не разнится от грез. Пусть лучше человек ошибочно понимает вещи и судит односторонне; но пусть только он с полною ясностью представляет себе то, что думает и что говорит, и вот он уже будет стоять на почве, а не висеть на воздухе (внимайте, стрижи).
До каких грустных последствий доводит людей неестественность и вычурность мысли, примером тому может служить статья г. Страхова. Мы получили от него письмо, в котором он свидетельствует о чистоте своих намерений и о чувстве, одушевлявшем его. Намерения у него были хорошие. И что же, однако, вышло? С его позволения мы воспользуемся некоторыми местами его письма, объясняющими его намерения и в то же время объясняющими, почему эти намерения не могли не извратиться в своем выражении. «Мне дорог мой патриотизм, – пишет от нам, – как дороги каждому чувства его души», и в своей статье, так оскорбившей, так возмутившей русское чувство, он имел наивную надежду послужить органом этому самому чувству! Он пишет нам далее: «Я полагал, что не всякое патриотическое чувство удовлетворится голословными похвалами и восклицаниями, что найдутся люди, которые потребуют прочных и глубоких основ для своего патриотического чувства, и потому старался глубже вникнуть в вопрос». Он старался глубже вникнуть в вопрос! Вот в этом-то вся и беда. Вместо того, чтобы смешаться с живыми людьми, вместо того, чтобы заодно с ними мыслить, чувствовать и действовать, он пустился вникать глубже в вопрос. Он забыл и почву, и народное чувство, и события, происходящие теперь у всех перед глазами, и погрузился в метафизику «вопроса». Что же он вынес из той глубины? Он говорит:
Я старался показать, что, осуждая поляков, мы, если хотим делать это основательно, должны простирать свое осуждение гораздо дальше, чем это обыкновенно делается, должны простирать его на величайшие их святыни, на их цивилизацию, заимствованную от Запада, на их католицизм, принятый от Рима. Обратно, я старался показать, что, гордясь собою, мы, русские, если хотим делать это основательно, должны простирать эту гордость глубже, чем это обыкновенно делается, т. е. не останавливаться в своем патриотизме на обширности и крепости государства, а обратить свое благоговение на русские народные начала, на те глубокие духовные силы русского народа, от которых без сомнения зависит и его государственная сила.
«Если я погрешил, то, если возможно, погрешил избытком патриотизма. Пусть те, кто негодует на мою статью, вникнут хорошенько в источник своего негодования, они убедятся, что оно происходит из затронутого народного самолюбия; а именно это самолюбие заговорило во мне и нашло в моей статье, может быть, слишком резкое выражение. Есть самолюбия, которые удовлетворяются малым; ужели же можно обвинить меня за то, что я пожелал для России слишком многого, что я выразил нетерпеливое ожидание нравственной победы России над Европою?»
Не грустно ли это? Не грустно ли видеть такую путаницу недоразумений? Человек хотел самым резким образом выразить свое народное самолюбие, свой патриотизм, и что же сделал?
Он не хотел удовольствоваться тем, что «обыкновенно делается»; он желал совершить нечто необыкновенное; он хотел «основательно» осудить поляков и простереть свое осуждение на величайшие их святыни. Но зачем же это? Боже мой! Зачем такое осуждение? Зачем такая анафема? Поляков осуждают вовсе не за цивилизацию их, не за религию их. Никакой надобности и никакого права не имеем мы осуждать их за это. Поляков осуждаем мы за те притязания их, которых удовлетворить мы не можем и которые должны встретить с нашей стороны самый несговорчивый, самый решительный, самый энергический отпор во всех отношениях.
Возымев намерение основательно осудить поляков, автор «Рокового вопроса» пожелал с неменьшею основательностью возгордиться своею народностью; он равномерно пожелал простереть эту гордость глубже, чем это обыкновенно делается, и обратить свое благоговение на русские начала, на глубокие духовные силы русского народа. Уверяем г. Страхова, что если б он удовольствовался тем, «что обыкновенно делается», если б он не погружался в глубину с своею гордостью и с своим благоговением, то и народная гордость его вернее нашла бы себе удовлетворение, и благоговение его не превратилось бы в кощунство и наругательство.
«Наши мыслители (т. е. стрижи) сочинили свою космологию, и имеют ее в виду, когда толкуют о происходящем в мире действительном: можно представить себе, сколько происходит отсюда всякой нелепости. По учению этих мыслителей, существуют какие-то два мира, из которых один называется Европой, или Западом, а другой – Россией, и эти два мира не имеют между собою ничего общего и взаимно исключают друг друга. Может быть, эта космология и очень хороша сама по себе, может быть, и в самом деле было бы очень приятно и желательно устроить два такие мира; но, к сожалению, в действительности ничего подобного не оказывается».
Говорят, г. Страхов вовсе не хотел писать письма «Русскому Вестнику», но стрижи, и между прочим г. Достоевский, заставили его, и таким образом сделали насилие его перу. Потом пронесся еще один потрясающий слух, будто даже г. Страхов обиделся ответом «Русского Вестника» и хотел возражать на него, но стрижи, между прочим и г. Достоевский, не хотели печатать возражения будто бы г. Страхов ежемесячно умоляет их о напечатании возражения и все без успеха. Подтверждение этих слухов я вижу в том, что в «Эпохе» не появляется почти ничего против «Русского Вестника», и таким образом, вероятно, стрижи совершенно запретили г. Страхову оправдать и очистить себя; но, несмотря на это, г. Страхов, по своему добродушию и незлобию, верно служит стрижам и кропает статейки под рубрикою «Заметки Летописца»; меня уверяли, что большая часть их принадлежит г. Страхову, хотя они и не подписаны; и действительно, во многих из них г. Страхов так и пахнет из каждой строки.
Помните, наконец, стрижи, «Современник» когда-то советовал вам не ершиться перед г. Катковым и не грубить ему, говорил: «прихлопнет и не пикнете». Вы тогда посмеялись над этим благоразумным советом и похвастались так: «В нас вовсе нет настолько слишком уж самоохранительного и виляющего до малодушия благоразумия». И как жестоко вы обличили теперь свое хвастовство, как ловко виляете теперь перед «Русским Вестником»!
Посторонний сатирик, автор «Стрижей».
notes
Примечания
1
Мы решительно не одобряем ни чересчур редкого тона этого «послания», ни его бесцеремонных полемических приемов, а печатаем его единственно во уважение его цели, которая действительно стоит того, чтобы для ее достижения употребить даже те неодобрительные средства, какие употребил автор послания. – Ред.