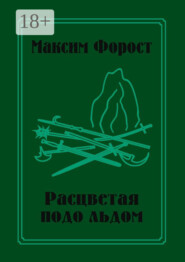По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вперед, государь! Сборник повестей и рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зубы мне заговариваешь?!
– Вот, слышу, и Хорт у тебя дома ощетинился – обман чует.
Стелются под брюхом Огня леса, катятся горы, мелькают города и вьются реки. Внизу, где дрожит рябинник, выросший из крови и ревности, скачет Чудо-Конь с седоком и спасённой пленницей. Вот – вскинули головы, заполошились. Женщина соскочила на землю, заметалась, всадник нелепо закружил возле рябинника.
– Ты его видишь, Огонь? – выкрикнул Ворон. – Ух, как горит! – он зажмурился. – Уж не сам ли меч Молния в руке у юноши? – Ворон взмахнул молотом, словно насмерть ударил воздух возле себя. Воздух взвихрился, закружились тучи, из туч вырвались ветры и едва не выбили из седла Месяца. Конь-Огонь пал на него с неба ливнем с ненастьем. Поникла трава. Чудо-Конь взвился на дыбы и бросился в бой. Громовник что-то отчаянно закричал, замахнулся Молнией-мечом и ударил Вихря в голову. Ворон только зло ухмыльнулся.
Трещали дубы, крошились холмы и горы, паром вскипали и пересыхали реки. Бой не заканчивался. Пленница-беглянка, казавшаяся Солнцем, Всеведовой дочерью, то и дело вскрикивала, забившись в рябинник. Финист бестолково рубил Ворона, а Вихрь лишь хохотал да подставлял под Молнию-меч молот. Вдруг Дива взвизгнула и заголосила: Финист, орудуя Молнией, промахнулся, раскрылся, и Ворон зацепил плечо Сокола. Всего один удар молота – легонький, скользящий, и не в грудь, а лишь по плечу, удар, что сковывает реки и обращает в лёд города. Сокол-Месяц без крика и стона замер, закаменел, со звоном выронил меч и грузно упал в шаге от рябины. Вихрь-Ворон подобрал с земли Молнию-меч и взвесил его в руке, недобро сощурившись.
– Ворон, не надо!
Ворон не оглянулся. Солнце за его спиной заходилась в крике. – «Строптивая Всеведова дочка осознала, наконец, что натворила», – протекла едкая мысль.
– Не руби его, Ворон!!! – крик, жалобы, мольбы впились в уши.
Ворон, стиснув зубы, махнул мечом и принялся рубить каменного Месяца в крошку. Иногда он, крякая, наклонялся, зачерпывал горстями осколки и швырял их в рябиновые заросли. После распрямился, вытер ладонью лицо и туда же, в рябину, выкинул меч Молнию.
– Собери его, Ворон, собери, как было! – обезумев, вопила солнечная Царевна. Ворон медленно обернулся на её крик и замер, будто бы только что увидел её.
Она ещё долго молила его. Кричала даже тогда, когда Ворон увозил её, силой усадив на Огненного Коня перед собою. Конь-Огонь смерчем летел назад в Зимние Чертоги, а эта девчонка, Стихия светлого Солнца, вопила и стенала, как будто у неё и в самом деле произошло горе…
В ледяных Чертогах, где морозным инеем сияет пламя в серебристом камине, Ворон Воронович вихрем носился по зале:
– Ты же любила меня, Прея! Ты отдалась мне сама, по любви! Я это почувствовал. Ведь я не принуждал тебя, Дива!
Лжедива в голос рыдала, закрывая лицо руками:
– Ненавижу! Ненавижу тебя… палач, душегуб.
Чёрный плащ крыльями взвился в воздух:
– Вон отсюда!!! – клыкастый пёс Хорт клубком шерсти вылетел вон из зала. – Когда ты любила меня в ту нашу ночь, когда отдавалась мне, ты тоже так думала: пускай придёт Месяц и убьёт его?! Да? Вы же – два светила, вы же – Солнце и Месяц! А я – кто? Мрак, чернота, лютая зима! Со мною рядом Солнцу и быть-то кощунство! – взъярился Ворон. – Что, угадал?! О-о! Я – Кощун, Кощей, ведь так? О-о, у природных Стихий имён так много… Стало одним больше!
Горячась, Ворон сорвал с себя плащ-крылья, скомкал их и бросил в камин. Пламя по-человечески вскрикнуло, обожжённое его крыльями, затрепетало и погасло. Лжесолнце снова зашлась в крике:
– Ты – лжец, лжец! У тебя огонь морозит, тень обжигает. Всё ненастоящее, всё лживое! А где твоя смерть? Даже она поддельная! Солгал, ты солгал мне, Кощей стылый! – Лжедива залилась слезами.
Ворон осклабился. Нос заострился, а глаза потемнели:
– Ну, уж так заведено у бессмертных, – он поюродствовал. – Чтобы смерть не в срок пришла да не ко времени, так не бывает. А ты захотела, да? Горячо-горячо захотела, чтобы я умер и костьми рассыпался? Так-то ему, злодею, и надо!
Весь издёргался Ворон, извёлся да так и выскочил из зала вон, разгорячённый. Только дверь за ним хлопнула, а Лжедива осталась одна в зале.
Зверяница что есть сил всхлипнула и застыла, поражённая.
«Как-как он сказал?» – побежали в голове торопливые мысли. Он сказал: «Не в срок». Зима, ночь и мрак… А ещё он сказал: «Горячо-горячо захотела?»
Ну, да! Зверяница стремглав бросилась по лестнице в нижние покои, туда, где над пологом кровати дремала вороница с воронёнком.
– Улетай, воронушка, – закричала на бегу, – скорее лети! Если гибель Сокола – не в срок, если не ко времени, то Месяц теперь ожил! Он ко мне спешит! Торопись, скажи ему – пусть сегодня же увезёт меня. Завтра будет так поздно…
Именно в этот час в доме ягой Матери хрустнула и отвалилась от кружева вторая рябиновая веточка. Засохла. У ягой Бабы от дурного предчувствия сжалось сердце.
«…Отчаянная и бедная моя девочка! Я до боли в пальцах стискиваю рябиновую ветку с алыми недоспелыми ягодами.
Это верно, что каждому свой черёд, и верно, что к Стихиям смерть не навек приходит – красному Лету на одну зиму, белому Дню на одну ночь. В особую ночь отведённый час наступает и мне, Старухе-Судьбе. Я буду спать мёртвым сном, и я не смогу вмешаться, чтобы направить тебя, Зверяница. Мне горько так, как горько, наверное, смертным людям, когда выросших детей уже не уберечь от ошибок.
На земле в эту ночь бьют грозы, плачем кричат воробьи, а рябинники горят гроздями алых ягод! Вечные Стихии, боясь накликать беду, зовут эту ночь «рябиновой». В эту ночь, минуя кружево судеб, воплощаются на свой страх и риск самые горячие и самые тайные желания. Случается рябиновая ночь лишь тогда, когда против воли обстоятельств совпадут три условия – гроза, плач воробьёв и пожар рябины.
Дочь, ты обо всём подумала?… Зверяница!… Я вижу, как ты сомкнула зубки и стиснула кулачки на руках. Почему же мои глаза так часто стали точить слёзы?…»
Ягая Баба окаменела лицом и принялась плести судьбы совсем других, посторонних и далеких от неё людей.
***
Под рябинами раскинулся, разметался убитый богатырь. Эти заросли рябины произросли недавно из крови Чудо-Коня в час незаслуженной обиды. Дивный конь, белый как день и чёрный как ночь, грива как алое пламя, вытянув шею, глядит теперь в небо. Маленький паучок ткёт там свою паутинку: одна перистая нить облака, другая, третья…
Чудо-Конь из осколков складывал тело Месяца, дыханием отогревал его. Рябина, протянув ветки, шевелила над телом богатыря листьями-пальцами. А небесный паучок, младшая стихия, так и не соткал облако с дождём. Чудо-Конь вытянул к небу губы и взмолился по-человечески:
– Появись же, весеннее облако! Пролейся, весенний дождичек! Нам ли, Стихиям, считаться, когда весна, а когда лето с осенью?
Ведает Чудо-Конь, этот край теперь навек славен и плодороден. Здесь землю вспахали мечом Молнией, а телом Финиста засеяли. Здесь бы Финисту и прорасти новой жизнью. Но где взять воды, не мёртвой, стоячей и чахлой, но живой, бегущей и говорливой? Только из вешних вод да из весеннего дождя с громовыми перекатами! Но не даёт небо дождя…
В рябиннике что-то полыхнуло, будто огонь загорелся. Чудо-Конь зубами выкатил из травы Финистово золотое яблоко. Лизнул его, ища себе жизненной силы, ухватил губами и метнул в самое небо. Золотое яблоко унеслось и больше не возвращалось.
Тогда-то кладовые на небосводе раскрылись, хлынул на землю весенний ливень… Но Чудо-Конь только простонал, как от боли – кругом рябинника дождь поливал землю, а тело Месяца даже и не обрызгал.
«…А что ты хотел, вещий Конь? Такова месть Всеведа. Вот он сам, Чернобородый, молнией-глазом из тучи зыркает. Я-то одна его вижу, я да ещё вот ты, Чудо-Конь… Гляди сам!…»
В хлещущем дожде, в самом ливне, едва ли не утопая в тяжёлых струях, летела к Чудо-Коню вороница с воронёнком. Её птенец вымок, измаялся, был чуть живой. Конь подскочил и ухватил его за крыло – чахлого, полумёртвого.
– Слышишь, вороново перо? – Конь зубами бережно держал воронёнка. – Ну-ка, спасай малыша. Ты, вороница, младшая стихия, чёрная Ночка и чёрная Тучка. Принеси мне живой воды!
Вороница, каркнула, бросилась под дождь и скоро вернулась, истекая потоками вод с чёрных крыльев. Живая вода на её перьях стала особенно сильной. Окроплённый птенец ожил, затрепетал да и сам вырвался из пасти Коня – крепкий, здоровенький.
– Теперь богатыря, – приказал Чудо-Конь.
Говорливая вода, шумящий дождь пролился с крыльев вороницы-тучки на Месяца. Где-то прокатил весенний гром, и Громовник очнулся. Светлый Сокол воспрянул, а ливень иссяк. Ещё сверкали последние молнии – это Финист очищал Всеведов меч травою. Просветлело.
Вдруг радуга-вестница вырвалась из-под крыльев вороницы – дождевой тучки:
– Пробудись, любимый, очнись! – Дива-Солнце сверкнула под облаками. – Ясный Сокол, не опоздай! Спеши, пока ночь не настала, – воскликнула вестница.
Вспышкой в небе блеснул Молния-меч, бросился вскачь Чудо-Конь. Финист Светлый Месяц стрелою летел над лесами, горами, пустынями. Из конских ноздрей рвались дым и пламя, грива и хвост Коня заревом стелились по небу.
«…Ты слышишь громовой всхрап Коня, бродяга! Ты испугался? Ты видишь зарево на половину неба! То-то ты восклицаешь: „О, идёт ненастная ночь! О, движется грозная буря!“ Дрожи, о бродяга, дрожи…»
Зарницей, подступающей грозой, блеснул Молния-меч, отражаясь от дверей Зимних Чертогов. Дива Красное Солнце сама выбежала навстречу Месяцу. Клыкастый пёс Хорт почему-то увивался у её ног.