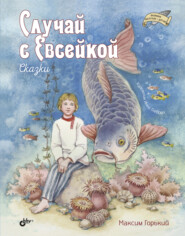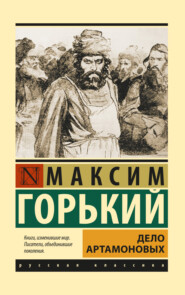По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Толстой. Чехов. Ленин
Автор
Жанр
Год написания книги
1930
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:
«Этот человек – богоподобен!»
О С. А. Толстой
Прочитав книжку «Уход Толстого», сочиненную господином Чертковым, я подумал: вероятно, найдется человек, который укажет в печати, что прямая и единственная цель этого сочинения – опорочить умершую Софью Андреевну Толстую.
Рецензий, которые обнажили бы эту благочестивую цель, я до сей поры не встретил. Теперь слышу, что скоро выйдет в свет еще одна книжка, написанная с тем же похвальным намерением: убедить грамотных людей мира, что жена Льва Толстого была его злым демоном, а подлинное имя ее – Ксантиппа. Очевидно: утверждение этой «правды» считается крайне важным и совершенно необходимым для людей, особенно же – я думаю – для тех, которые духовно и телесно питаются скандалами.
Нижегородский портной Гамиров говаривал: «Можно сшить костюм для украшения человека, можно и для искажения».
Правду, украшающую человека, создают художники, все же остальные жильцы земли наскоро, хотя и ловко, шьют «правды» для искажения друг друга. И, кажется, мы так неутомимо «пеняем» друг на друга потому, что человек человеку – зеркало.
Меня никогда не прельщало исследование ценности тех «правд», которые, по древнему русскому обычаю, пишутся дегтем на воротах, но мне хочется сказать несколько слов о единственной подруге великого Льва Толстого, как я вижу и чувствую ее.
Человек, конечно, не становится лучше оттого, что он умер; это ясно хотя бы потому, что о мертвых мы говорим так же скверно и несправедливо, как о живых. О крупных людях, которые, посвятив нам всю жизнь, все силы чудеса творящего духа своего, легли, наконец, в могилу, искусно замученные нашей пошлостью, – об этих людях мы говорим и пишем, кажется, всегда только для того, чтоб убедить самих себя: люди эти были такими же несчастными грешниками, каковы мы сами.
Преступление честного человека, хотя бы случайное и ничтожное, радует нас гораздо больше, чем бескорыстный и даже героический поступок подлеца, ибо: первый случай нам удобно и приятно рассматривать как необходимый закон, второй же тревожно волнует нас, как чудо, опасно нарушающее наше привычное отношение к человеку.
И всегда в первом случае мы скрываем радость под лицемерным сожалением, во втором же, лицемерно радуясь, тайно боимся: а вдруг подлецы, черт их возьми, сделаются честными людьми, – что же тогда с нами будет?
Ведь, как справедливо сказано, в большинстве своем люди «к добру и злу постыдно равнодушны», они и хотят пребыть таковыми до конца своей жизни; поэтому и добро и зло, в сущности, одинаково враждебно тревожит нас, и чем они ярче, тем более тревожат.
Эта прискорбная тревога нищих духом наблюдается и в нашем отношении к женщине. В литературе, в жизни мы хвастливо кричим:
«Русская женщина – вот лучшая женщина мира!»
Крик этот напоминает мне голос уличного торговца раками:
«Вот – р-раки! Живые р-раки! Крупные р-раки!»
Раков опускают живыми в кипяток и, добавив туда соли, перца, лаврового листа, варят раков до поры, пока они не покраснеют. В этом процессе есть сходство по существу с нашим отношением к «лучшей» женщине Европы.
Признав русскую женщину «лучшей», мы как будто испугались: а что, если она, в самом деле, окажется лучше нас? И при всяком удобном случае мы купаем наших женщин в кипятке жирной пошлости, не забывая, впрочем, сдобрить бульон двумя, тремя листиками лавра. Заметно, что чем более значительна женщина, тем более настойчиво хочется нам заставить ее покраснеть.
Черти в аду мучительно завидуют, наблюдая иезуитскую ловкость, с которой люди умеют порочить друг друга.
Человек не становится ни хуже ни лучше даже и после смерти своей, но он перестает мешать нам жить, и, не чуждые – в этом случае – чувства благодарности, мы награждаем умершего немедленным забвением о нем, беспорно – приятным ему. Я думаю, что вообще и всегда забвение – самое лучшее, что мы можем дать живому и мертвому из ряда тех людей, которые совершенно напрасно беспокоят нас своим стремлением сделать людей – лучше, жизнь – гуманнее.
Но и этот хороший обычай забвения умерших нередко нарушается нашей мелкой злобой, нищенской жаждой мести и лицемерием нашей морали, как о том свидетельствует, например, отношение к покойной Софье Андреевне Толстой.
Полагаю, что я могу говорить о ней совершенно беспристрастно, потому что она мне очень не нравилась, а я не пользовался ее симпатиями, чего она, человек прямодушный, не скрывала от меня. Ее отношение ко мне нередко принимало характер даже обидный, но – не обижало, ибо я хорошо видел, что она рассматривает большинство людей, окружавших ее великомученика мужа, как мух, комаров, вообще – как паразитов.
Возможно, что ревность ее к чужим людям иногда огорчала Льва Толстого. Здесь для остроумных людей является удобный случай вспомнить басню «Пустынник и Медведь». Но будет еще более уместно и умно, если они представят себе, как велика и густа была туча мух, окружавших великого писателя, и как надоедливы были некоторые из паразитов, кормившихся от духа его. Каждая муха стремилась оставить след свой в жизни и в памяти Толстого, и среди них были столь назойливые, что вызвали бы ненависть даже в любвеобильном Франциске Ассизском. Тем более естественно было враждебное отношение к ним Софьи Андреевны, человека страстного. Сам же Лев Толстой, как все великие художники, относился к людям очень снисходительно; у него были свои, оригинальные оценки, часто совершенно не совпадающие с установленной моралью; в «Дневнике» 52 г. он записал об одном знакомом своем:
«Если б у него не было страсти к собакам, он был бы отъявленный мерзавец».
Уже в конце 80-х годов его жена могла убедиться, что близость ко Льву Толстому некоторых из стада поклонников и «учеников» приносит ему только неприятности и огорчения. Ей, разумеется, известны были скандальные и тяжелые драмы в «толстовских» колониях, такие, как, например, драма Симбирской колонии Архангельского, кончившаяся самоубийством крестьянской девицы и вскоре после того изображенная в нашумевшем рассказе Каронина «Борская колония».
Она знала скверненькие публичные «обличения лицемерия графа Толстого», авторами которых являлись такие раскаявшиеся «толстовцы», как, например, Ильин, сочинитель истерически злой книжки «Дневник толстовца», она читала статьи бывшего ученика Льва Толстого и организатора колонии Новоселова, – он печатал статьи эти в «Православном обозрении», журнале «воинствующей церкви», ортодоксальном, как полицейский участок.
Ей, наверное, известна была лекция о Толстом профессора Казанской духовной академии Гусева, одного из наиболее назойливых обличителей «ереси самовлюбленного графа»; в лекции этой профессор, между прочим, заявил, что он пользовался сведениями о домашней жизни «яснополянского лжемудреца» от людей, увлекавшихся его сумбурной ересью.
Среди таких «увлеченных» проповедью мужа ее она видела Меньшикова, который, насытив свою книгу «О любви» идеями Толстого, быстро превратился в мрачного изувера и начал сотрудничать в «Новом времени» как один из наиболее видных человеконенавистников, шумно и талантливо работавших в этой распутной газете.
Много видела она таких людей и в их числе самородка поэта Булгакова, обласканного ее мужем; Лев Толстой печатал его бездарные стихи в «Русской мысли», а малограмотный, больной и болезненно самолюбивый стихотворец, в благодарность за это, сочинил грязную статейку «У Толстого. Открытое письмо ему». Статейка была написана так грубо, лживо и малограмотно, что, кажется, нигде не решились напечатать ее; даже в редакции «Московских ведомостей» написали на рукописи: «Не будет напечатано вследствие крайней грубости». Эту рукопись вместе с надписью Булгаков послал Толстому – и при письме, в котором требовал, чтоб Толстой опубликовал «правду о себе».
Вероятно, не дешево стоила Софье Андреевне история известного «толстовца» Буланже, и, конечно, всем этим не исчерпывается все то грубое, лицемерное, своекорыстное, что видела она от людей, якобы «единомыслящих» со Львом Толстым.
Отсюда вполне понятно ее острое недоверие к поклонникам и ученикам мужа, этими фактами вполне оправдывается ее стремление отпугнуть паразитов от человека, величие творчества, напряженность духовной жизни которого она прекрасно видела и понимала. И несомненно, что благодаря ей Лев Толстой не испытал многих ударов ослиных копыт, много грязи и бешеной слюны не коснулось его.
Напомню, что в 80-х годах почти каждый грамотный бездельник считал делом чести своей обличение религиозных, философских, социальных и прочих заблуждений мирового гения. Эти обличения доходили – по-видимому – и до людей «простого сердца», – бессмертна милая старушка, которая подкладывала хворост в костер Яна Гуса.
Я, как сейчас, вижу казанского кондитера Маломеркова у котла, в котором варился сироп для карамели, и слышу задумчивые слова делателя конфект и пирожных:
«Вот бы ехидну Толстого прокипятить, еретика…»
Царицынский парикмахер написал сочинение, озаглавленное – если не ошибаюсь – «Граф Толстой и святые пророки». Один из местных священников размашисто начертал на первом листе рукописи ярко-лиловыми чернилами:
«Всемерно одобряю сей труд, кроме грубости выражений гнева, впрочем справедливого».
Мой товарищ, телеграфист Юрин, умный горбун, выпросил у автора рукопись, мы читали ее, и я был ошеломлен дикой злобой цирюльника против автора «Поликушки», «Казаков», «В чем моя вера» и, кажется, «Сказки о трех братьях» – произведений, незадолго пред этим впервые прочитанных мною.
До донским станицам, по станциям Грязе-Царицынской и Волго-Донской дорог ходил хромой старик, казак из Лога, он рассказывал, что «под Москвой граф Толстой бунт против веры и царя поднимает», отнял землю у каких-то крестьян и отдал ее «почтальонам из господ, родственникам своим».
Отзвуки этой темной сумятицы чувств и умов, вызванной громким голосом мятежной совести гения, наверное, достигали Ясной Поляны, и, конечно, восьмидесятые годы были не только поэтому наиболее трудными в жизни Софии Андреевны. Ее роль в ту пору я вижу героической ролью. Она должна была иметь много душевной силы и зоркости для того, чтоб скрыть от Льва Толстого много злого и пошлого, многое, что ему – да и никому – не нужно знать и что могло повлиять на его отношение к людям.
Клевету и зло всего проще убить – молчанием.
Если мы беспристрастно посмотрим на жизнь учителей, мы увидим, что не только они – как принято думать – портят учеников, но и ученики искажают характер учителя, одни – своей тупостью, другие – озорством, третьи – карикатурным усвоением учения. Лев Толстой не всегда вполне равнодушно относился к оценкам его жизни и работы.
Наконец – жена его, вероятно, не забывала, что Толстой живет в стране, где все возможно и где правительство без суда сажает людей в тюрьмы и держит их там по двадцать лет. «Еретик» священник Золотницкий даже тридцать лет просидел в тюрьме Суздальского монастыря, его выпустили на волю лишь тогда, когда разум его совершенно угас.
Художник не ищет истины, он создает ее.
Не думаю, чтобы Льва Толстого удовлетворяла та истина, которую он проповедовал людям. В нем противоречиво и, должно быть, очень мучительно совмещались два основных типа разума: созидающий разум творца и скептический разум исследователя. Автор «Войны и мира» придумал и предлагал людям свое вероучение, может быть, только для того, чтоб они не мешали его напряженной и требовательной работе художника. Весьма допустимо, что гениальный художник Толстой смотрел на упрямого проповедника Толстого, снисходительно улыбаясь, насмешливо покачивая головою. В «Дневнике юности» Толстого есть прямые указания на его резко враждебное отношение к мысли аналитической; так, например, в 52 г. III, 22, он записал:
«Мыслей особенно много может вмещаться в одно и то же время, особенно в пустой голове».
Видимо, уже тогда «мысли» мешали основной потребности его сердца и духа – потребности художественного творчества. Лишь тем, что он мучительно испытывал мятеж «мыслей» против его бессознательного тяготения к искусству, – только этим борением двух начал в духе егo можно объяснить, почему он сказал:
«…сознание есть величайшее зло, которое только может постичь человека».
В одном из писем к Арсеньевой он сказал:
«Ум, слишком большой, противен».
Но «мысли» одолели его, принудив собирать и связывать их в некое подобие философской системы. Он тридцать лет пытался сделать это, и мы видели, как великий художник дошел до отрицания искусства, неоспоримо основного стержня своей души.
«Этот человек – богоподобен!»
О С. А. Толстой
Прочитав книжку «Уход Толстого», сочиненную господином Чертковым, я подумал: вероятно, найдется человек, который укажет в печати, что прямая и единственная цель этого сочинения – опорочить умершую Софью Андреевну Толстую.
Рецензий, которые обнажили бы эту благочестивую цель, я до сей поры не встретил. Теперь слышу, что скоро выйдет в свет еще одна книжка, написанная с тем же похвальным намерением: убедить грамотных людей мира, что жена Льва Толстого была его злым демоном, а подлинное имя ее – Ксантиппа. Очевидно: утверждение этой «правды» считается крайне важным и совершенно необходимым для людей, особенно же – я думаю – для тех, которые духовно и телесно питаются скандалами.
Нижегородский портной Гамиров говаривал: «Можно сшить костюм для украшения человека, можно и для искажения».
Правду, украшающую человека, создают художники, все же остальные жильцы земли наскоро, хотя и ловко, шьют «правды» для искажения друг друга. И, кажется, мы так неутомимо «пеняем» друг на друга потому, что человек человеку – зеркало.
Меня никогда не прельщало исследование ценности тех «правд», которые, по древнему русскому обычаю, пишутся дегтем на воротах, но мне хочется сказать несколько слов о единственной подруге великого Льва Толстого, как я вижу и чувствую ее.
Человек, конечно, не становится лучше оттого, что он умер; это ясно хотя бы потому, что о мертвых мы говорим так же скверно и несправедливо, как о живых. О крупных людях, которые, посвятив нам всю жизнь, все силы чудеса творящего духа своего, легли, наконец, в могилу, искусно замученные нашей пошлостью, – об этих людях мы говорим и пишем, кажется, всегда только для того, чтоб убедить самих себя: люди эти были такими же несчастными грешниками, каковы мы сами.
Преступление честного человека, хотя бы случайное и ничтожное, радует нас гораздо больше, чем бескорыстный и даже героический поступок подлеца, ибо: первый случай нам удобно и приятно рассматривать как необходимый закон, второй же тревожно волнует нас, как чудо, опасно нарушающее наше привычное отношение к человеку.
И всегда в первом случае мы скрываем радость под лицемерным сожалением, во втором же, лицемерно радуясь, тайно боимся: а вдруг подлецы, черт их возьми, сделаются честными людьми, – что же тогда с нами будет?
Ведь, как справедливо сказано, в большинстве своем люди «к добру и злу постыдно равнодушны», они и хотят пребыть таковыми до конца своей жизни; поэтому и добро и зло, в сущности, одинаково враждебно тревожит нас, и чем они ярче, тем более тревожат.
Эта прискорбная тревога нищих духом наблюдается и в нашем отношении к женщине. В литературе, в жизни мы хвастливо кричим:
«Русская женщина – вот лучшая женщина мира!»
Крик этот напоминает мне голос уличного торговца раками:
«Вот – р-раки! Живые р-раки! Крупные р-раки!»
Раков опускают живыми в кипяток и, добавив туда соли, перца, лаврового листа, варят раков до поры, пока они не покраснеют. В этом процессе есть сходство по существу с нашим отношением к «лучшей» женщине Европы.
Признав русскую женщину «лучшей», мы как будто испугались: а что, если она, в самом деле, окажется лучше нас? И при всяком удобном случае мы купаем наших женщин в кипятке жирной пошлости, не забывая, впрочем, сдобрить бульон двумя, тремя листиками лавра. Заметно, что чем более значительна женщина, тем более настойчиво хочется нам заставить ее покраснеть.
Черти в аду мучительно завидуют, наблюдая иезуитскую ловкость, с которой люди умеют порочить друг друга.
Человек не становится ни хуже ни лучше даже и после смерти своей, но он перестает мешать нам жить, и, не чуждые – в этом случае – чувства благодарности, мы награждаем умершего немедленным забвением о нем, беспорно – приятным ему. Я думаю, что вообще и всегда забвение – самое лучшее, что мы можем дать живому и мертвому из ряда тех людей, которые совершенно напрасно беспокоят нас своим стремлением сделать людей – лучше, жизнь – гуманнее.
Но и этот хороший обычай забвения умерших нередко нарушается нашей мелкой злобой, нищенской жаждой мести и лицемерием нашей морали, как о том свидетельствует, например, отношение к покойной Софье Андреевне Толстой.
Полагаю, что я могу говорить о ней совершенно беспристрастно, потому что она мне очень не нравилась, а я не пользовался ее симпатиями, чего она, человек прямодушный, не скрывала от меня. Ее отношение ко мне нередко принимало характер даже обидный, но – не обижало, ибо я хорошо видел, что она рассматривает большинство людей, окружавших ее великомученика мужа, как мух, комаров, вообще – как паразитов.
Возможно, что ревность ее к чужим людям иногда огорчала Льва Толстого. Здесь для остроумных людей является удобный случай вспомнить басню «Пустынник и Медведь». Но будет еще более уместно и умно, если они представят себе, как велика и густа была туча мух, окружавших великого писателя, и как надоедливы были некоторые из паразитов, кормившихся от духа его. Каждая муха стремилась оставить след свой в жизни и в памяти Толстого, и среди них были столь назойливые, что вызвали бы ненависть даже в любвеобильном Франциске Ассизском. Тем более естественно было враждебное отношение к ним Софьи Андреевны, человека страстного. Сам же Лев Толстой, как все великие художники, относился к людям очень снисходительно; у него были свои, оригинальные оценки, часто совершенно не совпадающие с установленной моралью; в «Дневнике» 52 г. он записал об одном знакомом своем:
«Если б у него не было страсти к собакам, он был бы отъявленный мерзавец».
Уже в конце 80-х годов его жена могла убедиться, что близость ко Льву Толстому некоторых из стада поклонников и «учеников» приносит ему только неприятности и огорчения. Ей, разумеется, известны были скандальные и тяжелые драмы в «толстовских» колониях, такие, как, например, драма Симбирской колонии Архангельского, кончившаяся самоубийством крестьянской девицы и вскоре после того изображенная в нашумевшем рассказе Каронина «Борская колония».
Она знала скверненькие публичные «обличения лицемерия графа Толстого», авторами которых являлись такие раскаявшиеся «толстовцы», как, например, Ильин, сочинитель истерически злой книжки «Дневник толстовца», она читала статьи бывшего ученика Льва Толстого и организатора колонии Новоселова, – он печатал статьи эти в «Православном обозрении», журнале «воинствующей церкви», ортодоксальном, как полицейский участок.
Ей, наверное, известна была лекция о Толстом профессора Казанской духовной академии Гусева, одного из наиболее назойливых обличителей «ереси самовлюбленного графа»; в лекции этой профессор, между прочим, заявил, что он пользовался сведениями о домашней жизни «яснополянского лжемудреца» от людей, увлекавшихся его сумбурной ересью.
Среди таких «увлеченных» проповедью мужа ее она видела Меньшикова, который, насытив свою книгу «О любви» идеями Толстого, быстро превратился в мрачного изувера и начал сотрудничать в «Новом времени» как один из наиболее видных человеконенавистников, шумно и талантливо работавших в этой распутной газете.
Много видела она таких людей и в их числе самородка поэта Булгакова, обласканного ее мужем; Лев Толстой печатал его бездарные стихи в «Русской мысли», а малограмотный, больной и болезненно самолюбивый стихотворец, в благодарность за это, сочинил грязную статейку «У Толстого. Открытое письмо ему». Статейка была написана так грубо, лживо и малограмотно, что, кажется, нигде не решились напечатать ее; даже в редакции «Московских ведомостей» написали на рукописи: «Не будет напечатано вследствие крайней грубости». Эту рукопись вместе с надписью Булгаков послал Толстому – и при письме, в котором требовал, чтоб Толстой опубликовал «правду о себе».
Вероятно, не дешево стоила Софье Андреевне история известного «толстовца» Буланже, и, конечно, всем этим не исчерпывается все то грубое, лицемерное, своекорыстное, что видела она от людей, якобы «единомыслящих» со Львом Толстым.
Отсюда вполне понятно ее острое недоверие к поклонникам и ученикам мужа, этими фактами вполне оправдывается ее стремление отпугнуть паразитов от человека, величие творчества, напряженность духовной жизни которого она прекрасно видела и понимала. И несомненно, что благодаря ей Лев Толстой не испытал многих ударов ослиных копыт, много грязи и бешеной слюны не коснулось его.
Напомню, что в 80-х годах почти каждый грамотный бездельник считал делом чести своей обличение религиозных, философских, социальных и прочих заблуждений мирового гения. Эти обличения доходили – по-видимому – и до людей «простого сердца», – бессмертна милая старушка, которая подкладывала хворост в костер Яна Гуса.
Я, как сейчас, вижу казанского кондитера Маломеркова у котла, в котором варился сироп для карамели, и слышу задумчивые слова делателя конфект и пирожных:
«Вот бы ехидну Толстого прокипятить, еретика…»
Царицынский парикмахер написал сочинение, озаглавленное – если не ошибаюсь – «Граф Толстой и святые пророки». Один из местных священников размашисто начертал на первом листе рукописи ярко-лиловыми чернилами:
«Всемерно одобряю сей труд, кроме грубости выражений гнева, впрочем справедливого».
Мой товарищ, телеграфист Юрин, умный горбун, выпросил у автора рукопись, мы читали ее, и я был ошеломлен дикой злобой цирюльника против автора «Поликушки», «Казаков», «В чем моя вера» и, кажется, «Сказки о трех братьях» – произведений, незадолго пред этим впервые прочитанных мною.
До донским станицам, по станциям Грязе-Царицынской и Волго-Донской дорог ходил хромой старик, казак из Лога, он рассказывал, что «под Москвой граф Толстой бунт против веры и царя поднимает», отнял землю у каких-то крестьян и отдал ее «почтальонам из господ, родственникам своим».
Отзвуки этой темной сумятицы чувств и умов, вызванной громким голосом мятежной совести гения, наверное, достигали Ясной Поляны, и, конечно, восьмидесятые годы были не только поэтому наиболее трудными в жизни Софии Андреевны. Ее роль в ту пору я вижу героической ролью. Она должна была иметь много душевной силы и зоркости для того, чтоб скрыть от Льва Толстого много злого и пошлого, многое, что ему – да и никому – не нужно знать и что могло повлиять на его отношение к людям.
Клевету и зло всего проще убить – молчанием.
Если мы беспристрастно посмотрим на жизнь учителей, мы увидим, что не только они – как принято думать – портят учеников, но и ученики искажают характер учителя, одни – своей тупостью, другие – озорством, третьи – карикатурным усвоением учения. Лев Толстой не всегда вполне равнодушно относился к оценкам его жизни и работы.
Наконец – жена его, вероятно, не забывала, что Толстой живет в стране, где все возможно и где правительство без суда сажает людей в тюрьмы и держит их там по двадцать лет. «Еретик» священник Золотницкий даже тридцать лет просидел в тюрьме Суздальского монастыря, его выпустили на волю лишь тогда, когда разум его совершенно угас.
Художник не ищет истины, он создает ее.
Не думаю, чтобы Льва Толстого удовлетворяла та истина, которую он проповедовал людям. В нем противоречиво и, должно быть, очень мучительно совмещались два основных типа разума: созидающий разум творца и скептический разум исследователя. Автор «Войны и мира» придумал и предлагал людям свое вероучение, может быть, только для того, чтоб они не мешали его напряженной и требовательной работе художника. Весьма допустимо, что гениальный художник Толстой смотрел на упрямого проповедника Толстого, снисходительно улыбаясь, насмешливо покачивая головою. В «Дневнике юности» Толстого есть прямые указания на его резко враждебное отношение к мысли аналитической; так, например, в 52 г. III, 22, он записал:
«Мыслей особенно много может вмещаться в одно и то же время, особенно в пустой голове».
Видимо, уже тогда «мысли» мешали основной потребности его сердца и духа – потребности художественного творчества. Лишь тем, что он мучительно испытывал мятеж «мыслей» против его бессознательного тяготения к искусству, – только этим борением двух начал в духе егo можно объяснить, почему он сказал:
«…сознание есть величайшее зло, которое только может постичь человека».
В одном из писем к Арсеньевой он сказал:
«Ум, слишком большой, противен».
Но «мысли» одолели его, принудив собирать и связывать их в некое подобие философской системы. Он тридцать лет пытался сделать это, и мы видели, как великий художник дошел до отрицания искусства, неоспоримо основного стержня своей души.