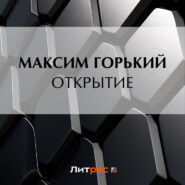По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Васса Железнова (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Якова Тарасовича повело всего, он с презрением посмотрел в лицо юноши и каким-то слабым голосом спросил его:
– Это ты говоришь?
– А кто же?
– Врешь! Это молодая твоя глупость говорит, да! А моя старая глупость – миллион раз жизнью испытана, – она тебе говорит: ты еще щенок, рано тебе басом лаять!
Фому и раньше частенько задевал слишком образный язык крестного, – Маякин всегда говорил с ним грубее отца, – но теперь юноша почувствовал себя крепко обиженным и сдержанно, но твердо сказал:
– Вы бы не ругались зря-то, я ведь не маленький…
– Да что ты говоришь? – насмешливо подняв брови, воскликнул Маякин.
Фому взорвало. Он взглянул в лицо старику и веско отчеканил:
– А вот говорю, что зряшной ругани вашей не хочу больше слышать, – довольно!
– Мм… да… та-ак! Извините…
Яков Тарасович прищурил глаза, пожевал губами и, отвернувшись от крестника, с минуту помолчал. Пролетка въехала в узкую улицу, и, увидав издали крышу своего дома, Фома невольно всем телом двинулся вперед. В то же время крестный, плутовато и ласково улыбаясь, спросил его:
– Фомка! Скажи – на ком ты зубы себе отточил? а?
– Разве острые стали? – спросил Фома, обрадованный таким обращением крестного.
– Ничего… Это хорошо, брат… это оч-чень хорошо! Боялись мы с отцом – мямля ты будешь!.. Ну, а водку пить выучился?
– Пил…
– Скоренько!.. Помногу, что ли?
– Зачем помногу-то…
– А вкусна?
– Не очень…
– Тэк… Ничего, все это не худо… Только вот больно ты открыт, – во всех грехах и всякому попу готов каяться… Ты сообрази насчет этого – не всегда, брат, это нужно… иной раз смолчишь – и людям угодишь, и греха не сотворишь. Н-да. Язык у человека редко трезв бывает. А вот и приехали… Смотри – отец-то не знает, что ты прибыл… дома ли еще?
Он был дома: в открытые окна из комнат на улицу несся его громкий, немного сиплый хохот. Шум пролетки, подъехавшей к дому, заставил Игната выглянуть в окно, и при виде сына он радостно крикнул:
– А-а! Явился…
Через минуту он, прижав Фому одной рукой ко груди, ладонью другой уперся ему в лоб, отгибая голову сына назад, смотрел в лицо ему сияющими глазами и довольно говорил:
– Загорел… поздоровел… молодец! Барыня! Хорош у меня сын?
– Недурен, – раздался ласковый, серебристый голос.
Фома взглянул из-за плеча отца и увидал: в переднем углу комнаты, облокотясь на стол, сидела маленькая женщина с пышными белокурыми волосами; на бледном лице ее резко выделялись темные глаза, тонкие брови и пухлые, красные губы. Сзади кресла стоял большой филодендрон – крупные, узорчатые листья висели в воздухе над ее золотистой головкой.
– Доброго здоровья, Софья Павловна, – умильно говорил Маякин, подходя к ней с протянутой рукой. – Что, всё контрибуции собираете с нас, бедных?
Фома молча поклонился ей, не слушая ни ее ответа Маякину, ни того, что говорил ему отец. Барыня пристально смотрела на него, улыбаясь приветливо. Ее детская фигура, окутанная в какую-то темную ткань, почти сливалась с малиновой материей кресла, отчего волнистые золотые волосы и бледное лицо точно светились на темном фоне. Сидя там, в углу, под зелеными листьями, она была похожа и на цветок и на икону.
– Смотри, Софья Павловна, как он на тебя воззрился, – орел, а? – говорил Игнат.
Ее глаза сузились, на щеках вспыхнул слабый румянец, и она засмеялась – точно серебряный колокольчик зазвенел. И тотчас же встала, говоря:
– Не буду мешать вам, до свидания!
Когда она бесшумно проходила мимо Фомы, на него пахнуло духами, и он увидал, что глаза у нее темно-синие, а брови почти черные.
– Уплыла щука, – тихо сказал Маякин, со злобой глядя вслед ей.
– Ну, рассказывай нам, как ездил? Много ли денег прокутил? – гудел Игнат, толкая сына в то кресло, в котором только что сидела Медынская. Фома покосился на него и сел в другое.
– Что, хороша, видно, бабеночка-то? – посмеиваясь, говорил Маякин, щупая Фому своими хитрыми глазками. – Вот будешь ты при ней рот разевать… так она все внутренности у тебя съест…
Фома почему-то вздрогнул и, не ответив ему, деловым тоном начал говорить отцу о поездке. Но Игнат перебил его речь:
– Погоди, я коньячку спрошу…
– А ты тут все пьешь, говорят… – неодобрительно сказал Фома.
Игнат с удивлением и любопытством взглянул на него и спросил:
– Да разве отцу можно этак говорить, а?
Фома сконфузился и опустил голову.
– То-то! – добродушно сказал Игнат и крикнул, чтоб дали коньяку…
Маякин, прищурив глаза, посмотрел на Гордеевых, вздохнул, простился и ушел, пригласив их вечером к себе пить чай в малиннике.
– Где же тетка Анфиса? – спросил Фома, чувствуя, что теперь, наедине с отцом, ему стало почему-то неловко.
– В монастырь поехала… Ну, говори мне, а я – выпью…
Фома в несколько минут рассказал отцу о делах и закончил рассказ откровенным признанием:
– Денег я истратил на себя… много.
– Сколько?
– Рублей… шестьсот…
– В полтора-то месяца! Немало… Вижу, что для приказчика – дорог ты мне… Куда ж это ты их всыпал?