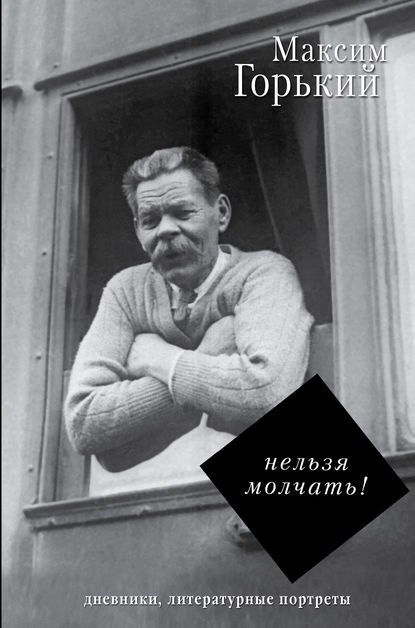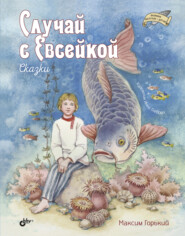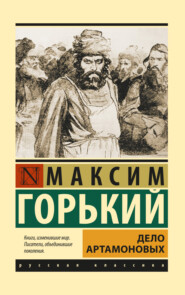По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Нельзя молчать!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это мой карандаш!
– Нет, мой!
– Нет, мой!
На шум появлялся Ракицкий. За ним из раскрытой двери вырывались клубы табачного дыма: его комната никогда не проветривалась, потому что от свежего воздуха у него болела голова. «Свежий воздух – яд для организма», – говорил он. Стоя в дыму, он кричал:
– Максим, сейчас же отдай карандаш Тимоше!
– Да он же мне нужен!
– Сейчас же изволь отдать, ты старше, ты должен ей уступить!
Максим отдает карандаш и уходит, надув губы. Но глядишь – через пять минут он уже все забыл, насвистывает и приплясывает.
Он был славный парень, веселый, уживчивый. Он очень любил большевиков, но не по убеждению, а потому, что вырос среди них и они всегда его баловали. Он говорил: «Владимир Ильич», «Феликс Эдмундович», но ему больше шло бы звать их «дядя Володя», «дядя Феликс». Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже снившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя, пересказывал фильмы, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замечательный клоунский талант, и, если бы ему нужно было работать, из него вышел бы первоклассный эксцентрик. Но он отродясь ничего не делал. Виктор Шкловский прозвал его советским принцем. Горький души в нем не чаял, но это была какая-то животная любовь, состоявшая из забот о том, чтобы Максим был жив, здоров, весел.
Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто – пить кофе. Однажды всею компанией были в синематографе. В сочельник на детской половине была елка с подарками; я получил пасьянсные карты, Алексей Максимович – теплые кальсоны. Когда становилось уж очень скучно, примерно раз в месяц, Максим покупал две бутылки Асти, бутылку мандаринного ликера, конфет – и вечером звал всех к себе. Танцевали под граммофон, Максим паясничал, ставили шарады, потом пели хором. Если Алексей Максимович упирался и долго не хотел идти спать, затягивали «Солнце всходит и заходит». Он сперва умолял: «Перестаньте вы, черти драповые», – потом вставал и, сгорбившись, уходил наверх.
Впрочем, мирное течение жизни разнообразилось каждую субботу. С утра посылали в отель «Минерва» – заказать семь ванн, и часов с трех до ужина происходило поочередное хождение через дорогу – туда и обратно – с халатами, полотенцами и мочалками. За ужином все поздравляли друг друга с легким паром, ели суп с пельменями, изготовленный нашими дамами, и хвалили распорядительную хозяйку «Минервы» синьору Какаче, о фамилии которой Алексей Максимович утверждал, что это – сравнительная степень. Так, по поводу безнадежной любви одного знакомого однажды он выразился: «Положение, какаче которого быть не может».
Приехав в Париж, я узнал, что Горький живет на Капри и проводит время чуть ли не в оргиях.
* * *
О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие, только живя с ним вместе. В известности не мог с ним сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за табльдотом. Слава приносила ему много денег, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость неприхотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади, извозчик домой из города – положительно, я не помню, чтобы у него были еще какие-нибудь расходы на личные надобности. Но круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю – не меньше человек пятнадцати в России и за границей. Тут были люди различнейших слоев общества, вплоть до титулованных эмигрантов, и люди, имевшие к нему самое разнообразное касательство: от родственников и свойственников – до таких, которых он никогда в глаза не видал. Целые семьи жили на его счет гораздо привольнее, чем жил он сам. Кроме постоянных пенсионеров было много случайных; между прочим, время от времени к нему обращались за помощью некоторые эмигрантские писатели. Отказа не получал никто. Горький раздавал деньги, не сообразуясь с действительной нуждой просителя и не заботясь о том, на что они пойдут. Случалось им застревать в передаточных инстанциях – Горький делал вид, что не замечает. Этого мало. Некоторые лица из его окружения, прикрываясь его именем и положением, занимались самыми предосудительными делами – вплоть до вымогательства. Те же лица, порою люто враждовавшие друг с другом из-за горьковских денег, зорко следили за тем, чтобы общественное поведение Горького было в достаточной мере прибыльно, и согласными усилиями, дружным напором, направляли его поступки. Горький изредка пробовал бунтовать, но в конце концов всегда подчинялся. На то были отчасти самые простые психологические причины: привычка, привязанность, желание, чтобы ему дали спокойно работать. Но главная причина, самая важная, им самим, вероятно, не осознаваемая, заключалась в особенном, очень важном обстоятельстве: в том крайне запутанном отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю его жизнь.
Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще – и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полувоображаемый тип благородного босяка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой.
Первоначальное литературное воспитание он получил среди людей, для которых смысл литературы исчерпывался ее бытовым и социальным содержанием. В глазах самого Горького его герой мог получить социальное значение и, следственно, литературное оправдание только на фоне действительности и как ее подлинная часть. Своих малореальных героев Горький стал показывать на фоне сугубо реалистических декораций. Перед публикой и перед самим собой он был вынужден притворяться бытописателем. В эту полуправду он и сам полууверовал на всю жизнь.
Философствуя и резонируя за своих героев, Горький в сильнейшей степени наделял их мечтою о лучшей жизни, то есть об искомой нравственно-социальной правде, которая должна надо всем воссиять и все устроить ко благу человечества. В чем заключается эта правда, горьковские герои поначалу еще не знали, как не знал и он сам. Некогда он ее искал и не нашел в религии. В начале девятисотых годов он увидел (или его научили видеть) ее залог в социальном прогрессе, понимаемом по Марксу. Если ни тогда, ни впоследствии он не сумел себя сделать настоящим, дисциплинированным марксистом, то все же принял марксизм как свое официальное вероисповедание или как рабочую гипотезу, на которой старался базироваться в своей художественной работе.
Я пишу воспоминания о Горьком, а не статью о его творчестве. В дальнейшем я и вернусь к своей теме, но предварительно вынужден остановиться на одном его произведении, может быть – лучшем из всего, что им написано, и несомненно – центральном в его творчестве: я имею в виду пьесу «На дне».
Ее основная тема – правда и ложь. Ее главный герой – странник Лука, «старец лукавый». Он является, чтобы обольстить обитателей «дна» утешительной ложью о существующем где-то царстве добра. При нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной.
Лука наделал хлопот марксистской критике, которая изо всех сил старается разъяснить читателям, что Лука – личность вредная, расслабляющая обездоленных мечтаниями, отвлекающая их от действительности и от классовой борьбы, которая одна может им обеспечить лучшее будущее. Марксисты по-своему правы: Лука, с его верою в просветление общества через просветление личности, с их точки зрения, в самом деле вреден. Горький это предвидел и потому, в виде корректива, противопоставлял Луке некоего Сатина, олицетворяющего пробуждение пролетарского сознания. Сатин и есть, так сказать, официальный резонер пьесы. «Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека», – провозглашает он. Но стоит вчитаться в пьесу, и мы тотчас заметим, что образ Сатина, по сравнению с образом Луки, написан бледно и – главное – нелюбовно. Положительный герой менее удался Горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного – своим живым чувством любви и жалости к людям.
Замечательно, что, в предвидении будущих обвинений против Луки, Горький именно Сатина делает его защитником. Когда другие персонажи пьесы ругают Луку, Сатин кричит на них: «Молчать! Вы все скоты! Дубье… молчать о старике!.. Старик – не шарлатан… Я понимаю старика… да! Он врал… но – это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему… Есть ложь утешительная, ложь примиряющая». Еще более примечательно, что свое собственное пробуждение Сатин приписывает влиянию Луки: «Старик? Он – умница! Он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету… Выпьем за его здоровье!»
Знаменитая фраза: «Человек – это великолепно! Это звучит гордо!» – вложена также в уста Сатина. Но автор про себя знал, что, кроме того, это звучит очень горько. Вся его жизнь пронизана острой жалостью к человеку, судьба которого казалась ему безвыходной. Единственное спасение человека он видел в творческой энергии, которая немыслима без непрестанного преодоления действительности – надеждой. Способность человека осуществить надежду ценил он не высоко, но самая эта способность к мечте, дар мечты приводили его в восторг и трепет. Сознание какой бы то ни было мечты, способной увлечь человечество, он считал истинным признаком гениальности, а поддержание этой мечты – делом великого человеколюбия.
Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.
В этих довольно слабых, но весьма выразительных стихах, произносимых одним из персонажей «На дне», заключен как бы девиз Горького, определяющий всю его жизнь, писательскую, общественную, личную. Горькому довелось жить в эпоху, когда «сон золотой» заключался в мечте о социальной революции как панацее от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, он сделался ее глашатаем – не потому, что так уж глубоко верил в революцию, а потому, что верил в спасительность самой мечты. В другую эпоху с такою же страстностью он отстаивал бы иные верования, иные надежды. Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел возбудителем и укрепителем мечты. Лукою, лукавым странником. От раннего, написанного в 1893 году рассказа о возвышенном чиже, «который лгал», и дятле, неизменном «любителе истины», вся его литературная, как и вся жизненная, деятельность проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде. «Я искреннейше и неколебимо ненавижу правду», – писал он Е.Д. Кусковой в 1929 году. Мне так и кажется, что я вижу, как он, со злым лицом, ощетинившись, со вздутой на шее жилой, выводит эти слова.
* * *
13 июля 1924 года он писал мне из Сорренто: «Тут, знаете, сезон праздников, – чуть ли не ежедневно фейерверки, процессии, музыка и “ликование народа”. А у нас? – думаю я. И – извините! – до слез, до ярости завидно, и больно, и тошно и т. д.».
Итальянские празднества с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал:
– Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух, как зажаривают!
Этому «великому реалисту» поистине нравилось только все то, что украшает действительность, от нее уводит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет. Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, – разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам его же и бранил, но первая реакция почти всегда была – слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот – написано, создано, вымышлено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и в протирании затуманившихся очков.
Он в особенности любил писателей молодых, начинающих: ему нравилась их надежда на будущее, их мечта о славе. Даже совсем плохих, заведомо безнадежных он не обескураживал: разрушать какие бы то ни было иллюзии он считал кощунством. Главное же – в начинающем писателе (опять-таки – в очень даже малообещающем) он лелеял собственную мечту и рад был обманывать самого себя вместе с ним. Замечательно, что к писателям, уже установившимся, он относился иначе. Действительно выдающихся он любил, как, например, Бунина (которого понимал), или заставлял себя любить (как, например, Блока, которого, в сущности, не понимал, но значительность которого не мог не чувствовать). Зато авторов, уже вышедших из пеленок, успевших приобрести известное положение, но не ставших вполне замечательными, он скорее недолюбливал. Казалось, он сердится на них за то, что уже нельзя мечтать, как они подымутся, станут замечательными, великими. В особенности в этих средних писателях его раздражала важность, олимпийство, то сознание своей значительности, которое, в самом деле, им более свойственно, чем писателям действительно выдающимся.
Он любил всех людей творческого склада, всех, кто вносит или только мечтает внести в мир нечто новое. Содержание и качество этой новизны имели в его глазах значение второстепенное. Его воображение равно волновали и поэты, и ученые, и всякие прожектеры, и изобретатели – вплоть до изобретателей перпетуум-мобиле. Сюда же примыкала его живая, как-то очень задорно и весело окрашенная любовь к людям, нарушающим или стремящимся нарушить заведенный в мире порядок. Диапазон этой любви, пожалуй, был еще шире: он простирался от мнимых нарушителей естественного хода вещей, то есть от фокусников и шулеров, до глубочайших социальных преобразователей. Я совсем не хочу сказать, что ярмарочный гаер и великий революционер имели в его глазах одну цену. Но для меня несомненно, что, различно относясь к ним умом, любил-то он и того и другого одним и тем же участком своей души. Недаром того же Сатина из «На дне», положительного героя и глашатая новой общественной правды, он не задумался сделать по роду занятий именно шулером.
Ему нравились все, решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или озорства, – вплоть до маньяков-поджигателей, о которых он много писал и о которых готов был рассказывать целыми часами. Он и сам был немножечко поджигатель. Ни разу я не видал, чтобы, закуривая, он потушил спичку, он непременно бросал ее непотушенной. Любимой и повседневной его привычкой было – после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, – незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих – а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти «семейные пожарчики», как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение. Он относился с большим почтением к опытам по разложению атома; часто говорил о том, что если они удадутся, то, например, из камня, подобранного на дороге, можно будет извлекать количество энергии, достаточное для междупланетных сообщений. Но говорил он об этом как-то скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце прибавить, уже задорно и весело, что «в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!» И он прищелкивал языком.
От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знавать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал и некогда посетил какого-то ихнего патриарха, жившего в Алессио. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь. Их проделки, бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая граничила с поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего неудовольствия. Некий Роде, бывший содержатель знаменитого кафешантана, изобрел себе целую революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей «многолетней революционной работе». Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать Домом ученых, через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать Дом ученых Роде вспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней.
Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обрастать при каждом своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их штукам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость – должно быть, видел в ней отсвет бунтарства и озорства. Он и сам, в домашнем быту, не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать «Соррентинскую правду» – рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы (вышло номера три или четыре). Сотрудниками были Горький, Берберова и я. Ракицкий был иллюстратором, Максим переписчиком. Максима же мы избрали и редактором – ввиду его крайней литературной некомпетентности. И вот – Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением его проделок. Ввиду его бессмысленных трат домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманные расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату сияющий, с пританцовыванием, с потиранием рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил:
– Во! Глядите-ка! Я спер у Марьи Игнатьевны десять лир! Айда в Сорренто!
Мы пошли в Сорренто, пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера.
* * *
В помощи деньгами или хлопотами он не отказывал никогда. Но в его благотворительстве была особенность: чем горше проситель жаловался, чем более падал духом, тем Горький был к нему внутренне равнодушнее, – и это не потому, что хотел от людей стойкости или сдержанности. Его требования шли гораздо дальше: он не выносил уныния и требовал от человека надежды – во что бы то ни стало, и в этом сказывался его своеобразный, упорный эгоизм: в обмен на свое участие он требовал для себя права мечтать о лучшем будущем того, кому он помогает. Если же проситель своим отчаянием заранее пресекал такие мечты, Горький сердился и помогал уже нехотя, не скрывая досады.
Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованию, ко всякой низкой истине он относился как к проявлению метафизически злого начала. Разрушенная мечта, словно труп, вызывала в нем брезгливость и страх, он в ней словно бы ощущал что-то нечистое. Этот страх, сопровождаемый озлоблением, вызывали у него и все люди, повинные в разрушении иллюзий, все колебатели душевного благодушия, основанного на мечте, все нарушители праздничного, приподнятого настроения. Осенью 1920 года в Петербург приехал Уэллс. На обеде, устроенном в его честь, сам Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно А.В. Амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам. С этого дня Горький его возненавидел – и вовсе не за то, что писатель выступил против советской власти, а за то, что он оказался разрушителем празднества, trouble f?te. В «На дне», в самом конце последнего акта, все поют хором. Вдруг открывается дверь, и Барон, стоя на пороге, кричит: «Эй… вы! Иди… идите сюда! На пустыре… там… Актер… удавился!» В наступившей тишине Сатин негромко ему отвечает: «Эх… испортил песню… дур-рак!» На этом занавес падает. Неизвестно, кого бранит Сатин: Актера, который некстати повесился, или Барона, принесшего об этом известие. Всего вероятнее, обоих, потому что оба виноваты в порче песни.
В этом – весь Горький. Он не стеснялся и в жизни откровенно сердиться на людей, приносящих дурные известия. Однажды я сказал ему:
– Вы, Алексей Максимович, вроде царя Салтана:
В гневе начал он чудесить
И гонца велел повесить.
Он ответил, насупившись:
– Умный царь. Дурных вестников обязательно надо казнить.
Может быть, этот наш разговор припомнил он и тогда, когда, в ответ на «низкие истины» Кусковой, ответил ей яростным пожеланием как можно скорей умереть.
* * *
Самому себе он не позволял быть вестником неудачи или несчастия. Если нельзя было смолчать, он предпочитал ложь и был искренно уверен, что поступает человеколюбиво.
Баронесса Варвара Ивановна Икскуль принадлежала к числу тех обаятельных женщин, которые умеют очаровывать старых и молодых, богатых и бедных, знатных и простолюдинов. В числе ее поклонников значились иностранные венценосцы и русские революционеры. В своем салоне, известном некогда всему Петербургу, она соединяла людей самых разных партий и положений. Говорят, однажды в своей гостиной она принимала свирепого министра внутренних дел, а в это время в недрах ее квартиры скрывался человек, разыскиваемый департаментом полиции. С императрицей Александрой Федоровной сохранила она добрые отношения до последних дней монархии. Поклонники и враги Распутина считали ее своей. Революция, разумеется, ее разорила. Ее удалось поселить в «Доме искусств», где я был ее частым гостем. В семьдесят лет она была по-прежнему обаятельна. Горький, как и многие, чем-то ей в прошлом обязанный, несколько раз меня о ней спрашивал. Я ей передавал об этом. Однажды она сказала: «Спросите Алексея Максимовича, не может ли он устроить, чтобы меня выпустили за границу». Горький ответил, что это дело нетрудное. Он велел Варваре Ивановне заполнить анкету, написать прошение и приложить фотографические карточки. Вскоре он поехал в Москву. Это было весной 1921 года. Легко себе представить, с каким нетерпением Варвара Ивановна ждала его возвращения. Наконец он вернулся, и я отправился к нему в тот же день. Он мне объявил, что разрешение получено, но паспорт будет готов только «сегодня к вечеру», и его через два дня привезет А.Н. Тихонов. Варвара Ивановна благодарила меня со слезами, о которых мне стыдно вспомнить. Она принялась распродавать кое-какое имущество, остальное раздаривала. Я каждый день звонил к Тихонову по телефону. Не успел он приехать – я был уже у него и узнал с изумлением, что Алексей Максимович не поручал ему ничего и что обо всем этом деле он слышит впервые. О том, как я пытался добиться от Горького объяснений, рассказывать неинтересно, да я и не помню подробностей. Суть в том, что он сперва говорил о «недоразумении» и обещал все поправить, потом уклонялся от разговоров на эту тему, потом сам уехал за границу. Варвара Ивановна, не дождавшись паспорта, ухитрилась бежать – зимой, с мальчишкою-провожатым, по льду Финского залива пробралась в Финляндию, а оттуда в Париж, где и умерла в феврале 1928 года. Через несколько месяцев после ее бегства я был в Москве и узнал в Наркоминделе, что Горький действительно представил ее прошение, но тогда же получил решительный отказ.
– Нет, мой!
– Нет, мой!
На шум появлялся Ракицкий. За ним из раскрытой двери вырывались клубы табачного дыма: его комната никогда не проветривалась, потому что от свежего воздуха у него болела голова. «Свежий воздух – яд для организма», – говорил он. Стоя в дыму, он кричал:
– Максим, сейчас же отдай карандаш Тимоше!
– Да он же мне нужен!
– Сейчас же изволь отдать, ты старше, ты должен ей уступить!
Максим отдает карандаш и уходит, надув губы. Но глядишь – через пять минут он уже все забыл, насвистывает и приплясывает.
Он был славный парень, веселый, уживчивый. Он очень любил большевиков, но не по убеждению, а потому, что вырос среди них и они всегда его баловали. Он говорил: «Владимир Ильич», «Феликс Эдмундович», но ему больше шло бы звать их «дядя Володя», «дядя Феликс». Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже снившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя, пересказывал фильмы, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замечательный клоунский талант, и, если бы ему нужно было работать, из него вышел бы первоклассный эксцентрик. Но он отродясь ничего не делал. Виктор Шкловский прозвал его советским принцем. Горький души в нем не чаял, но это была какая-то животная любовь, состоявшая из забот о том, чтобы Максим был жив, здоров, весел.
Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто – пить кофе. Однажды всею компанией были в синематографе. В сочельник на детской половине была елка с подарками; я получил пасьянсные карты, Алексей Максимович – теплые кальсоны. Когда становилось уж очень скучно, примерно раз в месяц, Максим покупал две бутылки Асти, бутылку мандаринного ликера, конфет – и вечером звал всех к себе. Танцевали под граммофон, Максим паясничал, ставили шарады, потом пели хором. Если Алексей Максимович упирался и долго не хотел идти спать, затягивали «Солнце всходит и заходит». Он сперва умолял: «Перестаньте вы, черти драповые», – потом вставал и, сгорбившись, уходил наверх.
Впрочем, мирное течение жизни разнообразилось каждую субботу. С утра посылали в отель «Минерва» – заказать семь ванн, и часов с трех до ужина происходило поочередное хождение через дорогу – туда и обратно – с халатами, полотенцами и мочалками. За ужином все поздравляли друг друга с легким паром, ели суп с пельменями, изготовленный нашими дамами, и хвалили распорядительную хозяйку «Минервы» синьору Какаче, о фамилии которой Алексей Максимович утверждал, что это – сравнительная степень. Так, по поводу безнадежной любви одного знакомого однажды он выразился: «Положение, какаче которого быть не может».
Приехав в Париж, я узнал, что Горький живет на Капри и проводит время чуть ли не в оргиях.
* * *
О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие, только живя с ним вместе. В известности не мог с ним сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за табльдотом. Слава приносила ему много денег, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость неприхотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади, извозчик домой из города – положительно, я не помню, чтобы у него были еще какие-нибудь расходы на личные надобности. Но круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю – не меньше человек пятнадцати в России и за границей. Тут были люди различнейших слоев общества, вплоть до титулованных эмигрантов, и люди, имевшие к нему самое разнообразное касательство: от родственников и свойственников – до таких, которых он никогда в глаза не видал. Целые семьи жили на его счет гораздо привольнее, чем жил он сам. Кроме постоянных пенсионеров было много случайных; между прочим, время от времени к нему обращались за помощью некоторые эмигрантские писатели. Отказа не получал никто. Горький раздавал деньги, не сообразуясь с действительной нуждой просителя и не заботясь о том, на что они пойдут. Случалось им застревать в передаточных инстанциях – Горький делал вид, что не замечает. Этого мало. Некоторые лица из его окружения, прикрываясь его именем и положением, занимались самыми предосудительными делами – вплоть до вымогательства. Те же лица, порою люто враждовавшие друг с другом из-за горьковских денег, зорко следили за тем, чтобы общественное поведение Горького было в достаточной мере прибыльно, и согласными усилиями, дружным напором, направляли его поступки. Горький изредка пробовал бунтовать, но в конце концов всегда подчинялся. На то были отчасти самые простые психологические причины: привычка, привязанность, желание, чтобы ему дали спокойно работать. Но главная причина, самая важная, им самим, вероятно, не осознаваемая, заключалась в особенном, очень важном обстоятельстве: в том крайне запутанном отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю его жизнь.
Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще – и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полувоображаемый тип благородного босяка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой.
Первоначальное литературное воспитание он получил среди людей, для которых смысл литературы исчерпывался ее бытовым и социальным содержанием. В глазах самого Горького его герой мог получить социальное значение и, следственно, литературное оправдание только на фоне действительности и как ее подлинная часть. Своих малореальных героев Горький стал показывать на фоне сугубо реалистических декораций. Перед публикой и перед самим собой он был вынужден притворяться бытописателем. В эту полуправду он и сам полууверовал на всю жизнь.
Философствуя и резонируя за своих героев, Горький в сильнейшей степени наделял их мечтою о лучшей жизни, то есть об искомой нравственно-социальной правде, которая должна надо всем воссиять и все устроить ко благу человечества. В чем заключается эта правда, горьковские герои поначалу еще не знали, как не знал и он сам. Некогда он ее искал и не нашел в религии. В начале девятисотых годов он увидел (или его научили видеть) ее залог в социальном прогрессе, понимаемом по Марксу. Если ни тогда, ни впоследствии он не сумел себя сделать настоящим, дисциплинированным марксистом, то все же принял марксизм как свое официальное вероисповедание или как рабочую гипотезу, на которой старался базироваться в своей художественной работе.
Я пишу воспоминания о Горьком, а не статью о его творчестве. В дальнейшем я и вернусь к своей теме, но предварительно вынужден остановиться на одном его произведении, может быть – лучшем из всего, что им написано, и несомненно – центральном в его творчестве: я имею в виду пьесу «На дне».
Ее основная тема – правда и ложь. Ее главный герой – странник Лука, «старец лукавый». Он является, чтобы обольстить обитателей «дна» утешительной ложью о существующем где-то царстве добра. При нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной.
Лука наделал хлопот марксистской критике, которая изо всех сил старается разъяснить читателям, что Лука – личность вредная, расслабляющая обездоленных мечтаниями, отвлекающая их от действительности и от классовой борьбы, которая одна может им обеспечить лучшее будущее. Марксисты по-своему правы: Лука, с его верою в просветление общества через просветление личности, с их точки зрения, в самом деле вреден. Горький это предвидел и потому, в виде корректива, противопоставлял Луке некоего Сатина, олицетворяющего пробуждение пролетарского сознания. Сатин и есть, так сказать, официальный резонер пьесы. «Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека», – провозглашает он. Но стоит вчитаться в пьесу, и мы тотчас заметим, что образ Сатина, по сравнению с образом Луки, написан бледно и – главное – нелюбовно. Положительный герой менее удался Горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного – своим живым чувством любви и жалости к людям.
Замечательно, что, в предвидении будущих обвинений против Луки, Горький именно Сатина делает его защитником. Когда другие персонажи пьесы ругают Луку, Сатин кричит на них: «Молчать! Вы все скоты! Дубье… молчать о старике!.. Старик – не шарлатан… Я понимаю старика… да! Он врал… но – это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему… Есть ложь утешительная, ложь примиряющая». Еще более примечательно, что свое собственное пробуждение Сатин приписывает влиянию Луки: «Старик? Он – умница! Он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету… Выпьем за его здоровье!»
Знаменитая фраза: «Человек – это великолепно! Это звучит гордо!» – вложена также в уста Сатина. Но автор про себя знал, что, кроме того, это звучит очень горько. Вся его жизнь пронизана острой жалостью к человеку, судьба которого казалась ему безвыходной. Единственное спасение человека он видел в творческой энергии, которая немыслима без непрестанного преодоления действительности – надеждой. Способность человека осуществить надежду ценил он не высоко, но самая эта способность к мечте, дар мечты приводили его в восторг и трепет. Сознание какой бы то ни было мечты, способной увлечь человечество, он считал истинным признаком гениальности, а поддержание этой мечты – делом великого человеколюбия.
Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.
В этих довольно слабых, но весьма выразительных стихах, произносимых одним из персонажей «На дне», заключен как бы девиз Горького, определяющий всю его жизнь, писательскую, общественную, личную. Горькому довелось жить в эпоху, когда «сон золотой» заключался в мечте о социальной революции как панацее от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, он сделался ее глашатаем – не потому, что так уж глубоко верил в революцию, а потому, что верил в спасительность самой мечты. В другую эпоху с такою же страстностью он отстаивал бы иные верования, иные надежды. Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел возбудителем и укрепителем мечты. Лукою, лукавым странником. От раннего, написанного в 1893 году рассказа о возвышенном чиже, «который лгал», и дятле, неизменном «любителе истины», вся его литературная, как и вся жизненная, деятельность проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде. «Я искреннейше и неколебимо ненавижу правду», – писал он Е.Д. Кусковой в 1929 году. Мне так и кажется, что я вижу, как он, со злым лицом, ощетинившись, со вздутой на шее жилой, выводит эти слова.
* * *
13 июля 1924 года он писал мне из Сорренто: «Тут, знаете, сезон праздников, – чуть ли не ежедневно фейерверки, процессии, музыка и “ликование народа”. А у нас? – думаю я. И – извините! – до слез, до ярости завидно, и больно, и тошно и т. д.».
Итальянские празднества с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал:
– Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух, как зажаривают!
Этому «великому реалисту» поистине нравилось только все то, что украшает действительность, от нее уводит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет. Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, – разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам его же и бранил, но первая реакция почти всегда была – слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот – написано, создано, вымышлено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и в протирании затуманившихся очков.
Он в особенности любил писателей молодых, начинающих: ему нравилась их надежда на будущее, их мечта о славе. Даже совсем плохих, заведомо безнадежных он не обескураживал: разрушать какие бы то ни было иллюзии он считал кощунством. Главное же – в начинающем писателе (опять-таки – в очень даже малообещающем) он лелеял собственную мечту и рад был обманывать самого себя вместе с ним. Замечательно, что к писателям, уже установившимся, он относился иначе. Действительно выдающихся он любил, как, например, Бунина (которого понимал), или заставлял себя любить (как, например, Блока, которого, в сущности, не понимал, но значительность которого не мог не чувствовать). Зато авторов, уже вышедших из пеленок, успевших приобрести известное положение, но не ставших вполне замечательными, он скорее недолюбливал. Казалось, он сердится на них за то, что уже нельзя мечтать, как они подымутся, станут замечательными, великими. В особенности в этих средних писателях его раздражала важность, олимпийство, то сознание своей значительности, которое, в самом деле, им более свойственно, чем писателям действительно выдающимся.
Он любил всех людей творческого склада, всех, кто вносит или только мечтает внести в мир нечто новое. Содержание и качество этой новизны имели в его глазах значение второстепенное. Его воображение равно волновали и поэты, и ученые, и всякие прожектеры, и изобретатели – вплоть до изобретателей перпетуум-мобиле. Сюда же примыкала его живая, как-то очень задорно и весело окрашенная любовь к людям, нарушающим или стремящимся нарушить заведенный в мире порядок. Диапазон этой любви, пожалуй, был еще шире: он простирался от мнимых нарушителей естественного хода вещей, то есть от фокусников и шулеров, до глубочайших социальных преобразователей. Я совсем не хочу сказать, что ярмарочный гаер и великий революционер имели в его глазах одну цену. Но для меня несомненно, что, различно относясь к ним умом, любил-то он и того и другого одним и тем же участком своей души. Недаром того же Сатина из «На дне», положительного героя и глашатая новой общественной правды, он не задумался сделать по роду занятий именно шулером.
Ему нравились все, решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или озорства, – вплоть до маньяков-поджигателей, о которых он много писал и о которых готов был рассказывать целыми часами. Он и сам был немножечко поджигатель. Ни разу я не видал, чтобы, закуривая, он потушил спичку, он непременно бросал ее непотушенной. Любимой и повседневной его привычкой было – после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, – незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих – а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти «семейные пожарчики», как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение. Он относился с большим почтением к опытам по разложению атома; часто говорил о том, что если они удадутся, то, например, из камня, подобранного на дороге, можно будет извлекать количество энергии, достаточное для междупланетных сообщений. Но говорил он об этом как-то скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце прибавить, уже задорно и весело, что «в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!» И он прищелкивал языком.
От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знавать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал и некогда посетил какого-то ихнего патриарха, жившего в Алессио. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь. Их проделки, бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая граничила с поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего неудовольствия. Некий Роде, бывший содержатель знаменитого кафешантана, изобрел себе целую революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей «многолетней революционной работе». Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать Домом ученых, через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать Дом ученых Роде вспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней.
Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обрастать при каждом своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их штукам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость – должно быть, видел в ней отсвет бунтарства и озорства. Он и сам, в домашнем быту, не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать «Соррентинскую правду» – рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы (вышло номера три или четыре). Сотрудниками были Горький, Берберова и я. Ракицкий был иллюстратором, Максим переписчиком. Максима же мы избрали и редактором – ввиду его крайней литературной некомпетентности. И вот – Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением его проделок. Ввиду его бессмысленных трат домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманные расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату сияющий, с пританцовыванием, с потиранием рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил:
– Во! Глядите-ка! Я спер у Марьи Игнатьевны десять лир! Айда в Сорренто!
Мы пошли в Сорренто, пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера.
* * *
В помощи деньгами или хлопотами он не отказывал никогда. Но в его благотворительстве была особенность: чем горше проситель жаловался, чем более падал духом, тем Горький был к нему внутренне равнодушнее, – и это не потому, что хотел от людей стойкости или сдержанности. Его требования шли гораздо дальше: он не выносил уныния и требовал от человека надежды – во что бы то ни стало, и в этом сказывался его своеобразный, упорный эгоизм: в обмен на свое участие он требовал для себя права мечтать о лучшем будущем того, кому он помогает. Если же проситель своим отчаянием заранее пресекал такие мечты, Горький сердился и помогал уже нехотя, не скрывая досады.
Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованию, ко всякой низкой истине он относился как к проявлению метафизически злого начала. Разрушенная мечта, словно труп, вызывала в нем брезгливость и страх, он в ней словно бы ощущал что-то нечистое. Этот страх, сопровождаемый озлоблением, вызывали у него и все люди, повинные в разрушении иллюзий, все колебатели душевного благодушия, основанного на мечте, все нарушители праздничного, приподнятого настроения. Осенью 1920 года в Петербург приехал Уэллс. На обеде, устроенном в его честь, сам Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно А.В. Амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам. С этого дня Горький его возненавидел – и вовсе не за то, что писатель выступил против советской власти, а за то, что он оказался разрушителем празднества, trouble f?te. В «На дне», в самом конце последнего акта, все поют хором. Вдруг открывается дверь, и Барон, стоя на пороге, кричит: «Эй… вы! Иди… идите сюда! На пустыре… там… Актер… удавился!» В наступившей тишине Сатин негромко ему отвечает: «Эх… испортил песню… дур-рак!» На этом занавес падает. Неизвестно, кого бранит Сатин: Актера, который некстати повесился, или Барона, принесшего об этом известие. Всего вероятнее, обоих, потому что оба виноваты в порче песни.
В этом – весь Горький. Он не стеснялся и в жизни откровенно сердиться на людей, приносящих дурные известия. Однажды я сказал ему:
– Вы, Алексей Максимович, вроде царя Салтана:
В гневе начал он чудесить
И гонца велел повесить.
Он ответил, насупившись:
– Умный царь. Дурных вестников обязательно надо казнить.
Может быть, этот наш разговор припомнил он и тогда, когда, в ответ на «низкие истины» Кусковой, ответил ей яростным пожеланием как можно скорей умереть.
* * *
Самому себе он не позволял быть вестником неудачи или несчастия. Если нельзя было смолчать, он предпочитал ложь и был искренно уверен, что поступает человеколюбиво.
Баронесса Варвара Ивановна Икскуль принадлежала к числу тех обаятельных женщин, которые умеют очаровывать старых и молодых, богатых и бедных, знатных и простолюдинов. В числе ее поклонников значились иностранные венценосцы и русские революционеры. В своем салоне, известном некогда всему Петербургу, она соединяла людей самых разных партий и положений. Говорят, однажды в своей гостиной она принимала свирепого министра внутренних дел, а в это время в недрах ее квартиры скрывался человек, разыскиваемый департаментом полиции. С императрицей Александрой Федоровной сохранила она добрые отношения до последних дней монархии. Поклонники и враги Распутина считали ее своей. Революция, разумеется, ее разорила. Ее удалось поселить в «Доме искусств», где я был ее частым гостем. В семьдесят лет она была по-прежнему обаятельна. Горький, как и многие, чем-то ей в прошлом обязанный, несколько раз меня о ней спрашивал. Я ей передавал об этом. Однажды она сказала: «Спросите Алексея Максимовича, не может ли он устроить, чтобы меня выпустили за границу». Горький ответил, что это дело нетрудное. Он велел Варваре Ивановне заполнить анкету, написать прошение и приложить фотографические карточки. Вскоре он поехал в Москву. Это было весной 1921 года. Легко себе представить, с каким нетерпением Варвара Ивановна ждала его возвращения. Наконец он вернулся, и я отправился к нему в тот же день. Он мне объявил, что разрешение получено, но паспорт будет готов только «сегодня к вечеру», и его через два дня привезет А.Н. Тихонов. Варвара Ивановна благодарила меня со слезами, о которых мне стыдно вспомнить. Она принялась распродавать кое-какое имущество, остальное раздаривала. Я каждый день звонил к Тихонову по телефону. Не успел он приехать – я был уже у него и узнал с изумлением, что Алексей Максимович не поручал ему ничего и что обо всем этом деле он слышит впервые. О том, как я пытался добиться от Горького объяснений, рассказывать неинтересно, да я и не помню подробностей. Суть в том, что он сперва говорил о «недоразумении» и обещал все поправить, потом уклонялся от разговоров на эту тему, потом сам уехал за границу. Варвара Ивановна, не дождавшись паспорта, ухитрилась бежать – зимой, с мальчишкою-провожатым, по льду Финского залива пробралась в Финляндию, а оттуда в Париж, где и умерла в феврале 1928 года. Через несколько месяцев после ее бегства я был в Москве и узнал в Наркоминделе, что Горький действительно представил ее прошение, но тогда же получил решительный отказ.