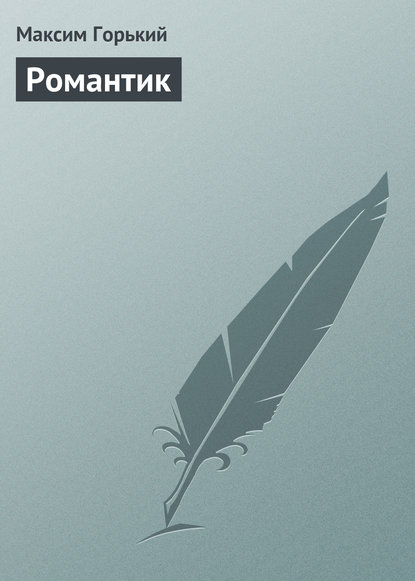По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Романтик
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Повёз ерунду! – сурово остановил его Алексей.
– Почему же – ерунда? – настаивал Фома мягко и ласково. – Вот, ты говоришь – класс, а какой она, примерно, класс? Просто добренькая барышня. Совестно ей жить в окружении людей, нам подобных, и вот…
– Когда из тебя вся эта патока вытечет? – возмутился Сомов. – Какая там совесть? Необходимость – вот тебе совесть! Будь у них другое место, куда идти, – они пойдут где легче, а не к нам, не мечтай!
Фома посмотрел вдоль улицы на огненные чётки фонарей и спросил:
– Так они – поневоле, думаешь?
– Ну конечно…
– Н-да? – сказал Вараксин, дёрнув головой вверх. – Н-не верится мне однако!
– Почему?
– Что хорошего – поневоле жить? Если я – краснодеревец и к работе своей привык – мне плотничная работа просто даже обидна, – верно? А они вроде как бы брёвна тешут…
Алексей плюнул, сказав:
– И пускай потешут…
На втором чтении Фоме показалось, что в словах барышни поблёскивают какие-то интересные мысли, трогающие его сердце, и, когда она кончила, он попросил её:
– Товарищ Лиза – одолжите мне эту вашу книжку до следующего раза, – можно?
– Пожалуйста, – сказала она и, видимо, чему-то очень обрадовалась.
Потом Фома шёл в город рядом с нею и всё остерегался, как бы не задеть её локтем. Поднимались в гору, с обеих сторон улицы на них смотрели тёмными окнами маленькие домишки городской окраины. Вверху улицы горел фонарь, вокруг него дрожало мутно-жёлтое пятно, сырая темнота осенней ночи была полна запахами гниющего дерева и помоев.
Фома, покашливая и стараясь выражаться изысканно, спрашивал Лизу:
– Значит, я могу верить, что в древние времена человечество говорило одним языком, так?
– Да, арийцы, – звучал ему в ответ тихий голос.
– И – уже доказано это?
– Точно доказано.
– Чудесно! Это – замечательно! Так что все теперь разрозненные народы находились в сослужении единству жизни, стало быть, и в древности имелась одна общая всем идея – да-а…
Но слова у него туго складывались, и думал он не о древности, а о маленькой барышне, которая торопливо шла в гору на полшага впереди него и немножко левее. Сжатая тьмой, она казалась ещё меньше, чем была, Фома заметил, что каждый раз, подходя к освещённому окну, она, наклонив голову, старалась поскорее ускользнуть из полосы света.
«Замечательно! – думал он, не переставая говорить и словно раздваиваясь. – Такая маленькая личность, без страха, в кругу чужих людей, ночью, в отдалённом от жизни месте… чудесно!»
Чтобы не размахивать руками, он сунул их в карманы, это было непривычно ему и связывало его.
– Вы пьяных не боитесь? – спросил он.
Тихо и живо она ответила:
– Ах нет, очень боюсь! Здесь их так много…
– Да, – сказал Фома, вздохнув, – пьют весьма безутешно! Главное – жизнь требует наполнения, а – нечем! То есть жизнь – в смысле души. Вино же, как известно, способствует фантазии. Тоже нельзя строго осуждать: разве человек причина тому, что приходится поддерживать жизнь фантазиями?
– Я не осуждаю! – воскликнула Лиза, замедляя шаг. – Я – понимаю. Вы очень верно сказали, ужасно верно!
Это обрадовало Фому – он не помнил случая, когда бы кто-нибудь соглашался с ним. И, вынув руки из кармана, похлопывая ладонью по книге за пазухой, он снова начал, доверчиво и убедительно:
– Если бы, видите ли, книги были доступнее, поверьте – другое дело! Собственно говоря – бояться людей не следует, уверяю вас, они заслуживают полного внимания и сожаления – в своей пустой жизни. Дело в том, что всего – очень мало, как вы знаете, и от этого все злы. Никаких утешений не имеется, у всякого одна подруга – голая судьба со страшным лицом нищеты и порока, как сказано в стихах поэта. И, конечно, когда подобные вам люди сойдут с вершины в большом количестве, – то обязательно это принесёт в жизнь содержание, достойное человека…
Лиза пошла ещё тише, поддерживая одной рукой юбку, другой она провела по лицу и сказала, вздохнув:
– Да, да, это правда!
– Фёдор Григорьич, – продолжал Фома, прерывая её, – сын священника, у которого жила моя матушка, – очень хороший человек моя матушка! но уже скончалась, – Федор Григорьич, который теперь даже скоро профессором будет, говорил бывало, оспаривая своего папашу: жить – это знать! И очень просто! Если я живу, не зная, кто я, где и зачем собственно, – какая же тут жизнь? Просто долголетнее одичание в эксплоатации разных тёмных сил, исходящих от человека, и предрассудков, им же сотворённых, – верно?
– Жить – это знать! – повторила Лиза. – Вот именно, товарищ, – вы замечательно широко понимаете…
Фома не помнил, что он ещё говорил, но он первый раз в жизни говорил так много, смело и горячо. Они расстались у ворот большого дома в два этажа, с колоннами по фасаду, и Лиза, встряхивая его руку, убедительно просила его:
– В четверг и понедельник – помните! От семи часов вечера – я дома, буду ждать до девяти, – хорошо?
– С величайшим удовольствием! – восклицал Фома, притопывая ногой о тротуар. – Очень благодарен! Чудесно!
Всю ночь вплоть до утра он ходил по улицам, вскинув голову вверх и мысленно слагая горячие, призывные речи о необходимости помочь словом и делом тем людям, которые ещё не понимают тождества понятия жить и знать. Ему было очень хорошо: серое небо осени как бы разверзлось перед ним, и из глубокой синей пропасти, точно звёзды, падали такие славные, звучные слова, сами собою слагаясь в светлые ряды добрых и любовных мыслей о жизни, о людях, и эти мысли поражали самого Фому своей непобедимой простотой, правдой, силой.
В четверг он сидел в комнатке Лизы, ничего не замечая, кроме напряжённого взгляда голубых глаз, которые, он видел, хотят понять его речи, – смотрел в их глубину и говорил:
– Стало быть, фигурно можно сказать, что идея эта о победе света над тьмою небесного происхождения?
– Да, если хотите, но – всё-таки – зачем же вам небесное?
– Красивейше как-то получается! Значит – коренная идея – солнце, которое даёт всему силу жизни! Это замечательно и вполне верно: я вчера ходил за город – на Ярило, знаете, глядеть закат! Вполне просто и легко вообразить всё, как описано: змей, мечи, борьба и одоление тьмы, а потом – восход в торжественном сиянии! Восхода, собственно, не было, а был дождь, но это ничего не значит. Я много раз раньше видал восход и обязательно посмотрю в ясную погоду. Непременно!
Оглянулся вокруг, и ему понравилась чистая уютная комнатка с белой постелью в углу, целомудренно прикрытой мягкой завесой мрака. На столе перед Фомой лежало много книг, они косо стояли на полке, по стенам висели знакомые ему фотографии писателей и учёных людей с длинными волосами и мрачными лицами. Потирая ладони, покрытые мозолями, пропитанные лаком, Фома тихонько смеялся и рассказывал:
– Замечательно, товарищ, сижу я, свеся ноги, на обрыве, подходит собака, такая, знаете, нищему подобная, в грязи, в репьях, седые усы на морде. Голодная, старая, неприютная. Подходит, села рядом и – тоже смотрит: там это пылает красное, жёлтое, сизые такие фигуры складываются, лучи их рушат, зажигают, реки текут золотые, – а мы, человек и собака, – смотрим, знаете. Собственно говоря, товарищ, ведь достоверно не узнано, что такое собака, например, и какое у неё отношение к солнцу? Может, и она тоже, – я, конечно, не знаю, – это так, фантазия, но – почему же собаке не понимать значения солнца, если она чувствует тепло и холод и может смотреть в небо? Свинья – это, конечно, другое дело! Я, знаете, даже пошутил: понимаешь, говорю, кто истинный творец жизни, а? Посмотрела она на меня косо и – отодвинулась… Все на земле очень недоверчивы и осторожны друг с другом… так печально это, если подумать! Конечно, глупо, может быть, но когда я прочитал эти две главы, то – вдруг, знаете, как будто теперь лишь впервые понял – солнце! Солнце – это удивительно просто!
– Вы две главы прочли? – услышал Фома.
Вопрос показался ему строгим.
– Только две, – ответил он и зачем-то пощупал стул, на котором сидел, – у нас, знаете, много работы срочной, купец Хлобыстяев дочь замуж собирается выдавать – берут зятя в дом – и мы чиним ему столовую, Хлобыстяеву. Превосходная мебель куплена им, чудесной, старинной работы, – дуб морёный, знаете…
Он видел, что голубые глаза девушки утомлённо прикрылись; и это тотчас же связало ему язык, наполнило его смущением. Не без усилия над собою, Фома продолжал, конфузливо улыбаясь:
– Может быть, я много болтаю лишнего – вы уж простите это мне!