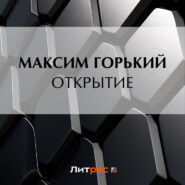По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Макар Чудра и многое другое…
Автор
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И три копейки за глаза ему, а семишник себе оставил бы, чучело!
…Весна. Каждый день одет в новое, каждый новый день ярче и милей; хмельно пахнет молодыми травами, свежей зеленью берёз, нестерпимо тянет в поле слушать жаворонка, лёжа на тёплой земле вверх лицом. А я – чищу зимнее платье, помогаю укладывать его в сундук, крошу листовой табак, выбиваю пыль из мебели, с утра до ночи вожусь с неприятными, ненужными мне вещами.
В свободные часы мне совершенно нечем жить; на убогой нашей улице пусто, дальше – не позволено уходить; на дворе сердитые, усталые землекопы, растрёпанные кухарки и прачки, каждый вечер – собачьи свадьбы, – это противно мне и обижает до того, что хочется ослепнуть.
Я иду на чердак, взяв с собою ножницы и разноцветной бумаги, вырезаю из неё кружевные рисунки и украшаю ими стропила… Всё-таки пища моей тоске. Мне тревожно хочется идти куда-то, где меньше спят, меньше ссорятся, не так назойливо одолевают бога жалобами, не так часто обижают людей сердитым судом.
…В субботу на пасхе приносят в город из Оранского монастыря чудотворную икону Владимирской божией матери; она гостит в городе до половины июня и посещает все дома, все квартиры каждого церковного прихода.
К моим хозяевам она явилась в будни утром; я чистил в кухне медную посуду, когда молодая хозяйка пугливо закричала из комнаты:
– Отпирай парадную – Оранскую несут!
Я бросился вниз, грязный, с руками в сале и тёртом кирпиче, отпер дверь, – молодой монах с фонарём в одной руке и кадилом в другой тихонько проворчал:
– Дрыхнете? Помогай…
Двое обывателей вносили по узкой лестнице тяжёлый киот, я помогал им, поддерживая грязными руками и плечом край киота, сзади топали тяжёлые монахи, неохотно распевая густыми голосами:
– «Пресвятая богородице, моли бога о на-ас…»
Я подумал с печальной уверенностью:
«Обидится на меня она за то, что я, грязный, несу её, и отсохнут у меня руки…»
Икону поставили в передний угол на два стула, прикрытые чистой простынёй, по бокам киота встали, поддерживая его, два монаха, молодые и красивые, подобно ангелам – ясноглазые, радостные, с пышными волосами.
Служили молебен.
– «О, всепетая мати», – высоким голосом выводил большой поп и всё щупал багровыми пальцами припухшую мочку уха, спрятанного в пышных волосах.
– «Пресвятая богородице, помилуй на-ас», – устало пели монахи. Я любил богородицу; по рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости – всё благое и прекрасное. И, когда нужно было приложиться к ручке её, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы.
Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу, в угол. Непамятно, как ушли монахи, унося икону, но очень помню: хозяева, окружив меня, сидевшего на полу, с великим страхом и заботою рассуждали – что же теперь будет со мной?
– Надо поговорить со священником, который поучёнее, – говорил хозяин и беззлобно ругал меня:
– Невежа, как же ты не понимаешь, что в губы нельзя целовать? А ещё… в школе учился…
Несколько дней я обречённо ждал – что же будет? Хватался за киот грязными руками, приложился незаконно, – уж не пройдёт мне даром это, не пройдёт!
Но, видимо, богородица простила невольный грех, вызванный искреннею любовью. Или же наказание её было так легко, что я не заметил его среди частых наказаний, испытанных мною от добрых людей.
Иногда, чтобы позлить старую хозяйку, я сокрушённо говорил ей:
– А богородица-то, видно, забыла наказать меня…
– А ты погоди, – ехидно обещала старуха. – Ещё поглядим…
…Украшая стропила чердака узорами из розовой чайной бумаги, листиками свинца, листьями деревьев и всякой всячиной, я распевал на церковные мотивы всё, что приходило в голову, как это делают калмыки в дороге:
Сижу я на чердаке,
С ножницами в руке.
Режу бумагу, режу…
Скушно мне, невеже!
Был бы я собакой
Бегал бы где хотел,
А теперь орёт на меня всякой:
Сиди да молчи, пострел,
Молчи, пока цел!
Старуха, разглядывая мою работу, усмехалась, качала головой.
– Ты бы вот этак-то кухню украсил…
Однажды на чердак пришел хозяин, осмотрел содеянное мною, вздохнул и сказал:
– Забавен ты, Пешков, чёрт тебя возьми… Фокусник, что ли, выйдет из тебя? Не догадаешься даже…
Он дал мне большой николаевский пятак.
Я укрепил монету лапками из тонкой проволоки и повесил её, как медаль, на самом видном месте среди моих пёстрых работ.
Но через день монета исчезла, вместе с лапками, – я уверен, что это старуха стащила её!
V
Весною я всё-таки убежал: пошёл утром в лавочку за хлебом к чаю, а лавочник, продолжая при мне ссору с женой, ударил её по лбу гирей; она выбежала на улицу и там упала; тотчас собрались люди, женщину посадили в пролётку, повезли её в больницу; я побежал за извозчиком, а потом, незаметно для себя, очутился на набережной Волги, с двугривенным в руке.
Ласково сиял весенний день, Волга разлилась широко, на земле было шумно, просторно, – а я жил до этого дня, точно мышонок в погребе. И я решил, что не вернусь к хозяевам и не пойду к бабушке в Кунавино, – я не сдержал слова, было стыдно видеть её, а дед стал бы злорадствовать надо мной.
Дня два-три я шлялся по набережной, питаясь около добродушных крючников, ночуя с ними на пристанях; потом один из них сказал мне:
– Ты, мальчишка, зря треплешься тут, вижу я! Иди-ка на «Добрый», там посудника надо…
Я пошёл; высокий, бородатый буфетчик, в чёрной шёлковой шапочке без козырька, посмотрел на меня сквозь очки мутными глазами и тихо сказал:
– Два рубля в месяц. Паспорт.
Паспорта у меня не было, буфетчик подумал и предложил:
– Мать приведи.
Я бросился к бабушке, она отнеслась к моему поступку одобрительно, уговорила деда сходить в ремесленную управу за паспортом для меня, а сама пошла со мною на пароход.
– Хорошо, – сказал буфетчик, взглянув на нас. – Идём.
Привёл меня на корму парохода, где за столиком сидел, распивая чай и одновременно куря толстую папиросу, огромный повар в белой куртке, в белом колпаке. Буфетчик толкнул меня к нему.