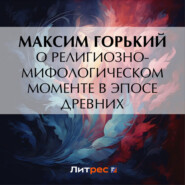По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мои университеты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лицо Мигуна болезненно дергается, прыгает бровь, быстро шевелятся пальцы рук, разбирая и подтачивая напильником крючки снасти, тихо звучит сердечный голос:
– Считаюсь я вором, верно – грешен! Так ведь и все грабежом живут, все друг дружку сосут да грызут. Да. Бог нас – не любит, а черт – балует!
Черная река ползет мимо нас, черные тучи двигаются над нею, лугового берега не видно во тьме. Осторожно шаркают волны о песок берега и замывают ноги мои, точно увлекая меня за собою в безбрежную, куда-то плывущую тьму.
– Жить-то надо? – вздыхая, спрашивает Мигун.
Вверху, на горе, уныло воет собака. Как сквозь сон, я думаю:
«А зачем надо жить таким и так, как ты?»
Очень тихо на реке, очень черно и жутко. И нет конца этой теплой тьме.
– Убьют Хохла. И тебя, гляди, убьют, – бормочет Мигун, потом неожиданно и тихо запевает песню:
Меня-а мамонька любила-а, —
Говорила:
– Эхма, Яша, эх ты, милая душа,
Живи тихо-о…
Он закрывает глаза, голос его звучит сильнее и печальней, пальцы, разбирая бечевку снасти, шевелятся медленнее.
Не послушал я родимой,
Эх, – не послушал…
У меня странное ощущение: как будто земля, подмытая тяжелым движением темной, жидкой массы, опрокидывается в нее, а я – съезжаю, соскальзываю с земли во тьму, где навсегда утонуло солнце.
Кончив петь так же неожиданно, как начал, Мигун молча стаскивает челнок в воду, садится в него, почти бесшумно исчезает в черноте. Смотрю вслед ему и думаю:
«Зачем живут такие люди?»
В друзьях у меня и Баринов, безалаберный человек, хвастун, лентяй, сплетник и непоседливый бродяга. Он жил в Москве и говорит о ней, отплевываясь:
– Адов город! Бестолочь. Церквей – четырнадцать тысяч и шесть штук, а народ – сплошь жулик! И все – в чесотке, как лошади, ей-богу! Купцы, военные, мещане – все, как есть, ходят и чешутся. Действительно, – царь-пушка есть там, струмент громадный! Петр Великий сам ее отливал, чтобы по бунтарям стрелять; баба одна, дворянка, бунт подняла против него, за любовь к нему. Жил он с ней ровно семь лет, изо дня в день, потом бросил с троими ребятами. Разгневалась она и – бунт! Так, братец ты мой, как он бабахнет из этой пушки по бунту – девять тысяч триста восемь человек сразу уложил! Даже – сам испугался. «Нет, – говорит Филарет-митрополиту, – надо ее, сволочь, заклепать от соблазну!» Заклепали…
Я говорю ему, что все это ерунда, он – сердится:
– Гос-споди боже мой! Какой у тебя характер скверный! Мне эту историю подробно ученый человек сказывал, а ты…
Ходил он в Киев «ко святым» и рассказывал:
– Город этот – вроде нашего села, тоже на горе стоит, и – река, забыл, однако, какая. Против Волги – лужица! Город путаный, надо прямо сказать. Все улицы – кривые и в гору лезут. Народ – хохол, не такой крови, как Михайло Антонов, а – полупольской, полутатарской. Балакает, – не говорит. Нечесаный народ, грязный. Лягушек ест, – лягушки у них фунтов по десяти. Ездит на быках и даже пашет на них. Быки у них – замечательные, самый маленький – вчетверо больше нашего. Восемьдесят три пуда весом. Монахов там – пятьдесят семь тысяч и двести семьдесят три архиерея… Ну, чудак! Как же ты можешь спорить? Я – сам все видел, своими глазами, а ты – был там? Не был. Ну, то-то же! Я, брат, точность больше всего люблю…
Он любил цифры, выучился у меня складывать и умножать их, но терпеть не мог деления. Увлеченно умножал многозначные числа, храбро ошибался при этом и, написав длинную линию цифр палкой на песке, смотрел на них пораженно, вытаращив детские глаза, восклицая:
– Такую штуку никто и выговорить не может!
Он – человек нескладный, растрепанный, оборванный, а лицо у него почти красивое, в курчавой, веселой бородке, голубые глаза улыбаются детской улыбкой. В нем и Кукушкине есть что-то общее, и, должно быть, поэтому они сторонятся друг от друга.
Баринов дважды ездил на Каспий ловить рыбу и – бредит:
– Море, братец мой, ни на что не похоже. Ты перед ним – мошка! Глядишь ты на него, и – нет тебя! И жизнь там сладкая. Туда сбегается всякий народ, даже архимандрит один был: ничего – работал! Кухарка тоже была одна, жила она у прокурора в любовницах – ну, чего бы еще надо? Однако – не стерпела: «Очень ты мне, прокурор, любезен, а все-таки – прощай!» Потому – кто хоть раз видел море, его снова туда тянет. Простор там. Как в небе – никакой толкотни! Я тоже уйду туда навеки. Не люблю я народ, вот что! Мне бы отшельником жить, в пустынях, ну – не знаю я пустынь порядочных…
Он болтался в селе, как бездомная собака, его презирали, но слушали рассказы его с таким же удовольствием, как песни Мигуна.
– Ловко врет! Занятно!
Его фантазии иногда смущали разум даже таких положительных людей, как Панков, – однажды этот недоверчивый мужик сказал Хохлу:
– Баринов доказывает, что про Грозного не все в книгах написано, многое скрыто. Он будто оборотень был, Грозный, орлом оборачивался, – с его времени орлов на деньгах и чеканят – в честь ему.
Я замечал – который раз? – что все необычное, фантастическое, явно, а иногда и плохо выдуманное, нравится людям гораздо больше, чем серьезные рассказы о правде жизни.
Но когда я говорил об этом Хохлу, он, усмехаясь, говорил:
– Это пройдет! Лишь бы люди научились думать, а до правды они додумаются. И чудаков этих – Баринова, Кукушкина – вам надо понять. Это, знаете, – художники, сочинители. Таким же, наверное, чудаком Христос был. А – согласитесь, что ведь он кое-что не плохо выдумал…
Удивляло меня, что все эти люди мало и неохотно говорят о боге, – только старик Суслов часто и с убеждением замечал:
– Всё – от бога!
И всегда я слышал в этих словах что-то безнадежное. Очень хорошо жилось с этими людьми, и многому научился я от них в ночи бесед. Мне казалось, что каждый вопрос, поставленный Ромасем, пустил, как мощное дерево, корни свои в плоть жизни, а там, в недрах ее, эти корни сплелись с корнями другого, такого же векового дерева, и на каждой ветви их ярко цветут мысли, пышно распускаются листья звучных слов. Я чувствовал свой рост, насосавшись возбуждающего меда книг, увереннее говорил, и уже не раз Хохол, усмехаясь, похваливал меня:
– Хорошо действуете, Максимыч!
Как я был благодарен ему за эти слова!
Панков иногда приводил жену свою, маленькую женщину с кротким лицом и умным взглядом синих глаз, одетую «по-городскому». Она тихонько садилась в угол, скромно поджав губы, но через некоторое время рот ее удивленно открывался и глаза расширялись пугливо. А иногда она, слыша меткое словцо, смущенно смеялась, закрывая лицо руками. Панков же, подмигнув Ромасю, говорил:
– Понимает!
К Хохлу приезжали осторожные люди, он уходил с ними на чердак ко мне и часами сидел там.
Туда Аксинья подавала им есть и пить, там они спали, невидимые никому, кроме меня и кухарки, по-собачьи преданной Ромасю, почти молившейся на него. По ночам Изот и Панков отвозили этих гостей в лодке на мимо идущий пароход или на пристань в Лобышки. Я смотрел с горы, как на черной – или посеребренной луною – реке мелькает чечевица лодки, летает над нею огонек фонаря, привлекая внимание капитана парохода, – смотрел и чувствовал себя участником великого, тайного дела.
Приезжала из города Мария Деренкова, но я уже не нашел в ее взгляде того, что смущало меня, глаза ее показались мне глазами девушки, которая счастлива сознанием своей миловидности и рада, что за нею ухаживает большой бородатый человек. Он говорил с нею так же спокойно и немножко насмешливо, как со всеми, только бороду поглаживал чаще, да глаза его сияли теплее. А ее тонкий голосок звучал весело, она была одета в голубое платье, голубая лента на светлых волосах. Детские руки ее были странно беспокойны – как будто искали, за что бы схватиться? Она почти непрерывно напевала что-то, не открывая рта, и обмахивала платочком розоватое, тающее лицо. Было в ней что-то, волновавшее меня по-новому, неприязненно и сердито. Я старался возможно меньше видеть ее.
В средине июля пропал Изот. Заговорили, что он утонул, и дня через два подтвердилось: верстах в семи ниже села к луговому берегу прибило его лодку с проломленным дном и разбитым бортом. Несчастие объяснили тем, что Изот, вероятно, заснул на реке и лодку его снесло на пыжи трех барж, стоявших на якорях, верстах в пяти ниже села.
Ромась был в Казани, когда случилось это. Вечером ко мне в лавку пришел Кукушкин, уныло сел на мешки, помолчал, глядя на ноги себе, потом, закуривая, спросил:
– Когда Хохол воротится?
– Не знаю.
Он начал крепко растирать ладонью бритое свое лицо, тихонько ругаясь матерными словами, рыча, как подавившийся костью.
– Что ты?