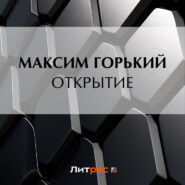По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О вреде философии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ездил я – с Мигуном. Лодку смотрели Изотову. Топором дно-то прорублено понял? Значит – убит Изотушка! Убили. Не иначе…
Встряхивая головою, он стал нанизывать матерные слова, одно на другое, всхлипывал сухим, горячим звуком, а потом, замолчав, стал креститься. Нестерпимо было видеть, как этот мужик хочет заплакать, и – не может, не умеет, дрожит весь, задыхаясь в злобе и печали. Вскочил и ушел, встряхивая головою.
На другой день вечером, мальчишки, купаясь, увидали Изота под разбитой баржею, обсохшей на берегу немного выше села. Половина днища баржи была на камнях берега, половина – в воде и под нею, у кормы, зацепившись за изломанные полости руля, распласталось вниз лицом длинное тело Изота с разбитым, пустым черепом, – вода вымыла мозг из него. Рыбака ударили сзади, затылок его был точно стесан топором. Течение колебало Изота, забрасывая ноги его к берегу, двигая руками рыбака, казалось, что он напрягает силы свои, пытаясь выкарабкаться на берег.
Угрюмо, сосредоточенно на берегу стояло десятка два мужиков богачей, – бедняки еще не воротились с поля. Суетился, размахивая посошком, вороватый, трусливый староста, шмыгал носом и отирал его рукавом розовой рубахи. Широко расставив ноги, выпятив живот, стоял кряжистый лавочник Кузьмин, глядя – по очереди – на меня и Кукушкина. Он грозно нахмурил брови, но его бесцветные глаза слизились и рябое лицо показалось мне жалким.
– Ой, озорство! – причитал староста, семеня кривыми ногами. – Ох, мужики, не хорошо!
Дородная молодуха, сноха его, сидя на камне, тупо смотрела в воду и крестилась дрожащей рукой, губы ее шевелились, и нижняя, толстая, красная как-то неприятно, точно у собаки, отвисала, обнажая желтые зубы овцы. С горы цветными комьями катились девки, ребятишки, поспешно шагали пыльные мужики. Толпа осторожно и негромко гудела:
– Занозистый был мужик.
– Чем это?
– Это, вон, Кукушкин занознет…
– Зря извели человека…
– Изот – смирно жил…
– Смирно-о? – завыл Кукушкин, бросаясь к мужикам. – Так за что же вы его убили, а? Сволочь! А?
Вдруг истерически захохотала какая-то баба, и хохот кликуши точно плетью ударил толпу, – мужики заорали, налезая друг на друга, ругаясь, рыча, а Кукушкин, подскочив к лавочнику, с размаха ударил его ладонью по шероховатой щеке:
– На, животный!
Размахивая кулаками, он тотчас же выскочил из свалки и почти весело крикнул мне:
– Уходи, драться будут!
Его уже ударили, он плевал кровью из разбитой губы, но лицо его сияло удовольствием…
– Видал, как я Кузьмина шарахнул?
К нам подбежал Баринов, пугливо оглядываясь на толпу у баржи – она сбилась тесной кучей, из нее вырывался тонкий голос старосты.
– Нет, ты докажи – кому я мирволю? Ты – докажи!
– Уходить надо отсюда мне, – ворчал Баринов, поднимаясь в гору. – Вечер был зноен, тягостная духота мешала дышать. Багровое солнце опускалось в плотные, синеватые тучи, красные отблески сверкали на листве кустов; где-то ворчал гром.
Предо мною шевелилось тело Изота, и на разбитом черепе его волоса, выпрямленные течением, как-будто встали дыбом. Я вспоминал его глуховатый голос, хорошие слова:
– В каждом человеке детское есть, – на него и надо упирать, на детское это. Возьми Хохла: он, будто, железный; а душа в нем – детская.
Кукушкин, шагая рядом со мною, говорил сердито:
– Всех нас вот эдак, – перетово… Господи, глупость какая!
Хохол приехал дня через два, поздно ночью, видимо очень довольный чем-то, необычно ласковый. Когда я впустил его в избу, он хлопнул меня по плечу:
– Мало спите, Максимыч.
– Изота убили.
– Что-о?
Скулы у него вздулись желваками и борода задрожала, точно струясь, стекая на грудь. Не снимая фуражки, он остановился среди комнаты, прищурив глаза, мотая головой.
– Так. Неизвестно – кто? Ну, да…
Медленно прошел к окну и сел там, вытянув ноги.
– Я же говорил ему… Начальство было?
– Вчера. Становой…
– Ну, что же? – спросил он и сам себе ответил: – конечно – ничего.
Я сказал ему, что становой, как всегда, остановился у Кузьмина и велел посадить в холодную Кукушкина за пощечину лавочнику.
– Так. Ну, что же тут скажешь?
Я ушел в кухню кипятить самовар.
За чаем Ромась говорил:
– Жалко этот народ, – лучших своих убивает он. Можно думать – боится их. «Не ко двору» они ему, как здесь говорят. Когда шел я этапом в Сибирь эту, – каторжанин один рассказывал мне: занимался он воровством, была у него целая шайка, пятеро. И вот один начал говорить: бросимте, братцы, воровство, все равно – толку нет, живем плохо. И за это они его удушили, когда он пьяный спал. Рассказчик очень хвалил мне убитого: троих, говорит, прикончил я после того – не жалко, а товарища до сего дня жалею, хороший был товарищ – умный, веселый, чистая душа. «Что же вы убили его, спрашиваю, – боялись: выдаст?» Даже обиделся: «нет, говорит, он бы ни за какие деньги не выдал, ни за что. А – так, как-то, не ладно стало дружить с ним, все мы – грешны, а он, будто, праведник. Не хорошо».
Хохол встал и начал шагать по комнате, заложив руки на спину, держа в зубах трубку, белый весь, в длинной татарской рубахе до пят. Крепко топая босыми подошвами, он говорил тихо и задумчиво, точно беседуя сам с собою.
– Много раз натыкался я на эту боязнь праведника, на изгнание из жизни хорошего человека. Два отношения к таким людям: либо их всячески уничтожают, сначала затравив хорошенько, или – как собаки – смотрят им в глаза, ползают пред ними на брюхе. Это реже. А учиться жить у них, подражать им – не могут, не умеют. Может быть – не хотят?
Взяв стакан остывшего чая, он сказал:
– Могут и не хотеть. Подумайте, – люди с великим трудом наладили для себя какую-то жизнь, привыкли к ней, а кто-то один – бунтует: не так живете. Не так? Да, мы же лучшие силы наши вложили в эту жизнь, дьявол тебя возьми. И – бац его, учителя, праведника. Не мешай. А, все же таки, живая правда с теми, которые говорят: не так живете. С ними правда. И это они двигают жизнь к лучшему.
Махнув рукою на полку книг, он добавил:
– Особенно – эти! Эх, если б я мог написать книгу. Но – не гожусь на это, мысли у меня тяжелые, нескладные.
Он сел за стол, облокотился и, сжав голову руками, сказал:
– Как жалко Изота…
И долго молчал.
– Ну, давайте, ляжем спать…