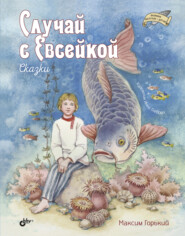По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В людях
Автор
Жанр
Год написания книги
1914
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дай сюда нож…
– Все едино, – сказал солдат, протягивая нож острием; повар сунул нож мне и толкнул солдата в каюту.
– Ляг и спи! Ты что такое, а?
Солдат молча сел на койку.
– Он тебе есть принесет и водки, – пьешь водку?
– Немножко пью…
– Ты смотри, не трогай его – это не он посмеялся над тобой, слышишь? Я говорю – не он…
– А зачем меня мучили? – тихонько спросил солдат.
Смурый не сразу и угрюмо отозвался:
– Ну, а я знаю?
Идя со мною в кухню, он бормотал:
– Н-на… действительно, привязались к убогому! Видишь – как? То-то! Люди, брат, могут с ума свести, могут… Привяжутся, как клопы, и – шабаш! Даже куда там – клопы! Злее клопов…
Когда я принес солдату хлеба, мяса и водки, он сидел на койке, покачивался взад и вперед и плакал тихонько, всхлипывая, как баба. Поставив тарелку на столик, я сказал:
– Ешь…
– Затвори дверь.
– Темно будет.
– Затвори, а то они опять прилезут…
Я ушел. Солдат был неприятен мне, он не возбуждал сострадания и жалости у меня. Это было неловко, – бабушка многократно поучала меня:
«Людей надо жалеть, все несчастны, всем трудно…»
– Отнес? – спросил меня повар. – Ну, что он там?
– Плачет…
– Эт… мешок! Какой он солдат?
– Мне его не жалко.
– Ну? Что такое?
– Людей надо жалеть…
Смурый взял меня за руку, подтянул к себе и внушительно сказал:
– Насильно не пожалеешь, а врать не годится, – понял? Ты не привыкай кисели разводить, знай сам себя…
И, оттолкнув, прибавил угрюмо:
– Не место тебе здесь! На, покури…
Я был глубоко взволнован, весь измят поведением пассажиров, чувствуя нечто невыразимо оскорбительное и подавляющее в том, как они травили солдата, как радостно хохотали, когда Смурый трепал его за ухо. Как могло нравиться им все это противное, жалкое, что тут смешило их столь радостно?
Вот они снова расселись, разлеглись под низким тентом, – пьют, жуют, играют в карты, мирно и солидно беседуя, смотрят на реку, точно это не они свистели и улюлюкали час тому назад. Все они такие же тихие, ленивые, как всегда; с утра до вечера они медленно толкутся на пароходе, как мошки или пылинки в лучах солнца. Вот десяток людей, толкаясь у сходен и крестясь, уходит с парохода на пристань, а с пристани прямо на них лезут еще такие же люди, так же согнули спины под тяжестью котомок и сундуков, так же одеты…
Эта постоянная смена людей ничего не изменяет в жизни парохода, – новые пассажиры будут говорить о том же, о чем говорили ушедшие: о земле, о работе, о боге, о бабах, и теми же словами.
– Положено Господом Богом терпеть, и – терпи, человек! Ничего не поделаешь, такая наша судьба…
Эти слова скучно слушать, и они раздражают: я не терплю грязи, я не хочу терпеть злое, несправедливое, обидное отношение ко мне; я твердо знаю, чувствую, что не заслужил такого отношения. И солдат не заслужил. Может быть – он сам хочет быть смешным…
Прогнали с парохода Максима – это был серьезный, добрый парень, а Сергея, человека подлого, оставили. Все это – не так. А почему эти люди, способные затравить человека, довести его почти до безумия, всегда покорно подчиняются сердитым окрикам матросов, безобидно выслушивают ругательства?
– Чего навалились на борт? – кричит боцман, прищурив красивые, но злые глаза. – Пароход накренили, разойдись, черти драповые…
Черти смиренно переваливаются на другой борт, а оттуда их снова гонят, как баранов.
– А, окаянные…
Жаркими ночами, под раскаленным за день железным тентом, – душно; пассажиры тараканами расползаются по всей палубе, ложатся где попало; перед пристанью матросы будят их пинками.
– Эй, чего растянулись на дороге! Пошли прочь, на места…
Они встают и сонно двигаются туда, куда их толкают.
Матросы такие же, как они, только иначе одеты, но командуют ими, как полицейские.
Тихое, робкое и грустно-покорное заметно в людях прежде всего, и так странно, страшно, когда сквозь эту кору покорности вдруг прорвется жестокое, бессмысленное и почти всегда невеселое озорство. Мне кажется, что люди не знают, куда их везут, им все равно, где их высадят с парохода. Где бы они ни сошли на берег, посидев на нем недолго, они снова придут на этот или другой пароход, снова куда-то поедут. Все они какие-то заплутавшиеся, безродные, вся земля чужая для них. И все они до безумия трусливы.
Однажды за полночь что-то лопнуло в машине, выстрелив, как из пушки. Палуба сразу заволоклась белым облаком пара, он густо поднимался из машинного трюма, курился во всех щелях; кто-то невидимый кричал оглушительно:
– Гаврило, сурик, войлок…
Я спал около машинного трюма, на столе, на котором мыл посуду, и когда проснулся от выстрела и сотрясения, на палубе было тихо, в машине горячо шипел пар, часто стучали молотки. Но через минуту все палубные пассажиры разноголосно завыли, заорали, и сразу стало жутко.
В белом тумане – он быстро редел – метались, сшибая друг друга с ног, простоволосые бабы, встрепанные мужики с круглыми рыбьими глазами, все тащили куда-то узлы, мешки, сундуки, спотыкаясь и падая, призывая бога, Николу Угодника, били друг друга; это было очень страшно, но в то же время интересно; я бегал за людьми и все смотрел – что они делают?
Первый раз я видел ночную тревогу и как-то сразу понял, что люди делали ее по ошибке: пароход шел, не замедляя движения, за правым бортом, очень близко горели костры косарей, ночь была светлая, высоко стояла полная луна.
А люди носились по палубе всё быстрее, выскочили классные пассажиры, кто-то прыгнул за борт, за ним – другой, и еще; двое мужиков и монах отбивали поленьями скамью, привинченную к палубе; с кормы бросили в воду большую клетку с курами; среди палубы, около лестницы на капитанский мостик, стоял на коленях мужик и, кланяясь бежавшим мимо него, выл волком:
– Православные, грешен…
– Все едино, – сказал солдат, протягивая нож острием; повар сунул нож мне и толкнул солдата в каюту.
– Ляг и спи! Ты что такое, а?
Солдат молча сел на койку.
– Он тебе есть принесет и водки, – пьешь водку?
– Немножко пью…
– Ты смотри, не трогай его – это не он посмеялся над тобой, слышишь? Я говорю – не он…
– А зачем меня мучили? – тихонько спросил солдат.
Смурый не сразу и угрюмо отозвался:
– Ну, а я знаю?
Идя со мною в кухню, он бормотал:
– Н-на… действительно, привязались к убогому! Видишь – как? То-то! Люди, брат, могут с ума свести, могут… Привяжутся, как клопы, и – шабаш! Даже куда там – клопы! Злее клопов…
Когда я принес солдату хлеба, мяса и водки, он сидел на койке, покачивался взад и вперед и плакал тихонько, всхлипывая, как баба. Поставив тарелку на столик, я сказал:
– Ешь…
– Затвори дверь.
– Темно будет.
– Затвори, а то они опять прилезут…
Я ушел. Солдат был неприятен мне, он не возбуждал сострадания и жалости у меня. Это было неловко, – бабушка многократно поучала меня:
«Людей надо жалеть, все несчастны, всем трудно…»
– Отнес? – спросил меня повар. – Ну, что он там?
– Плачет…
– Эт… мешок! Какой он солдат?
– Мне его не жалко.
– Ну? Что такое?
– Людей надо жалеть…
Смурый взял меня за руку, подтянул к себе и внушительно сказал:
– Насильно не пожалеешь, а врать не годится, – понял? Ты не привыкай кисели разводить, знай сам себя…
И, оттолкнув, прибавил угрюмо:
– Не место тебе здесь! На, покури…
Я был глубоко взволнован, весь измят поведением пассажиров, чувствуя нечто невыразимо оскорбительное и подавляющее в том, как они травили солдата, как радостно хохотали, когда Смурый трепал его за ухо. Как могло нравиться им все это противное, жалкое, что тут смешило их столь радостно?
Вот они снова расселись, разлеглись под низким тентом, – пьют, жуют, играют в карты, мирно и солидно беседуя, смотрят на реку, точно это не они свистели и улюлюкали час тому назад. Все они такие же тихие, ленивые, как всегда; с утра до вечера они медленно толкутся на пароходе, как мошки или пылинки в лучах солнца. Вот десяток людей, толкаясь у сходен и крестясь, уходит с парохода на пристань, а с пристани прямо на них лезут еще такие же люди, так же согнули спины под тяжестью котомок и сундуков, так же одеты…
Эта постоянная смена людей ничего не изменяет в жизни парохода, – новые пассажиры будут говорить о том же, о чем говорили ушедшие: о земле, о работе, о боге, о бабах, и теми же словами.
– Положено Господом Богом терпеть, и – терпи, человек! Ничего не поделаешь, такая наша судьба…
Эти слова скучно слушать, и они раздражают: я не терплю грязи, я не хочу терпеть злое, несправедливое, обидное отношение ко мне; я твердо знаю, чувствую, что не заслужил такого отношения. И солдат не заслужил. Может быть – он сам хочет быть смешным…
Прогнали с парохода Максима – это был серьезный, добрый парень, а Сергея, человека подлого, оставили. Все это – не так. А почему эти люди, способные затравить человека, довести его почти до безумия, всегда покорно подчиняются сердитым окрикам матросов, безобидно выслушивают ругательства?
– Чего навалились на борт? – кричит боцман, прищурив красивые, но злые глаза. – Пароход накренили, разойдись, черти драповые…
Черти смиренно переваливаются на другой борт, а оттуда их снова гонят, как баранов.
– А, окаянные…
Жаркими ночами, под раскаленным за день железным тентом, – душно; пассажиры тараканами расползаются по всей палубе, ложатся где попало; перед пристанью матросы будят их пинками.
– Эй, чего растянулись на дороге! Пошли прочь, на места…
Они встают и сонно двигаются туда, куда их толкают.
Матросы такие же, как они, только иначе одеты, но командуют ими, как полицейские.
Тихое, робкое и грустно-покорное заметно в людях прежде всего, и так странно, страшно, когда сквозь эту кору покорности вдруг прорвется жестокое, бессмысленное и почти всегда невеселое озорство. Мне кажется, что люди не знают, куда их везут, им все равно, где их высадят с парохода. Где бы они ни сошли на берег, посидев на нем недолго, они снова придут на этот или другой пароход, снова куда-то поедут. Все они какие-то заплутавшиеся, безродные, вся земля чужая для них. И все они до безумия трусливы.
Однажды за полночь что-то лопнуло в машине, выстрелив, как из пушки. Палуба сразу заволоклась белым облаком пара, он густо поднимался из машинного трюма, курился во всех щелях; кто-то невидимый кричал оглушительно:
– Гаврило, сурик, войлок…
Я спал около машинного трюма, на столе, на котором мыл посуду, и когда проснулся от выстрела и сотрясения, на палубе было тихо, в машине горячо шипел пар, часто стучали молотки. Но через минуту все палубные пассажиры разноголосно завыли, заорали, и сразу стало жутко.
В белом тумане – он быстро редел – метались, сшибая друг друга с ног, простоволосые бабы, встрепанные мужики с круглыми рыбьими глазами, все тащили куда-то узлы, мешки, сундуки, спотыкаясь и падая, призывая бога, Николу Угодника, били друг друга; это было очень страшно, но в то же время интересно; я бегал за людьми и все смотрел – что они делают?
Первый раз я видел ночную тревогу и как-то сразу понял, что люди делали ее по ошибке: пароход шел, не замедляя движения, за правым бортом, очень близко горели костры косарей, ночь была светлая, высоко стояла полная луна.
А люди носились по палубе всё быстрее, выскочили классные пассажиры, кто-то прыгнул за борт, за ним – другой, и еще; двое мужиков и монах отбивали поленьями скамью, привинченную к палубе; с кормы бросили в воду большую клетку с курами; среди палубы, около лестницы на капитанский мостик, стоял на коленях мужик и, кланяясь бежавшим мимо него, выл волком:
– Православные, грешен…