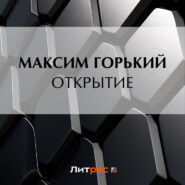По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Детство. В людях. Мои университеты
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Развел руками, отстраняя нас, и встал, сказав громко, сердито:
– Отходят все, все в сторону норовят – все врозь идет… Ну, зови ее, что ли! Скорее уж…
Бабушка пошла вон из кухни, а он, наклоня голову, сказал в угол:
– Всемилостивый Господи, ну – вот, видишь, вот!
И крепко, гулко ударил себя кулаком в грудь; мне это не понравилось, мне вообще не нравилось, как он говорит с богом, всегда будто хвастаясь пред ним.
Пришла мать, от ее красной одежды в кухне стало светлее, она сидела на лавке у стола, дед и бабушка – по бокам ее, широкие рукава ее платья лежали у них на плечах, она тихонько и серьезно рассказывала что-то, а они слушали ее молча, не перебивая. Теперь они оба стали маленькие, и казалось, что она – мать им.
Уставший от волнений, я крепко заснул на полатях.
Вечером старики, празднично одевшись, пошли ко всенощной, бабушка весело подмигнула на деда, в мундире цехового старшины, в енотовой шубе и брюках навыпуск, подмигнула и сказала матери:
– Ты гляди, каков отец-то, – козленок чистенький!
Мать весело засмеялась.
Когда я остался с нею в ее комнате, она села на диван, поджав под себя ноги, и сказала, хлопнув ладонью рядом с собою:
– Иди ко мне! Ну, как ты живешь – плохо, а?
Как я жил?
– Не знаю.
– Дедушка бьет?
– Теперь – не очень уж.
– Да? Ты расскажи мне, что хочешь, – ну?
Рассказывать о дедушке не хотелось, я начал говорить о том, что вот, в этой комнате жил очень милый человек, но никто не любил его, и дед отказал ему от квартиры. Видно было, что эта история не понравилась матери, она сказала:
– Ну, а еще что?
Я рассказал о трех мальчиках, о том, как полковник прогнал меня со двора, – она обняла меня крепко.
– Экая дрянь…
И замолчала, прищурясь, глядя в пол, качая головой. Я спросил:
– За что дед сердился на тебя?
– Я пред ним виновата.
– А ты бы привезла ему ребенка-то…
Она откачнулась, нахмурясь, закусив губы, и – захохотала, тиская меня.
– Ах ты, чудовище! Ты – молчи об этом, слышишь? Молчи и – не думай даже!
Долго говорила что-то тихо, строго и непонятно, потом встала и начала ходить, стукая пальцами о подбородок, двигая густыми бровями.
На столе горела, оплывая и отражаясь в пустоте зеркала, сальная свеча, грязные тени ползали по полу, в углу перед образом теплилась лампада, ледяное окно серебрил лунный свет. Мать оглядывалась, точно искала чего-то на голых стенах, на потолке.
– Ты когда ложишься спать?
– Немножко погодя.
– Впрочем, ты днем спал, – вспомнила она и вздохнула. Я спросил:
– Ты уйти хочешь?
– Куда же? – удивленно откликнулась она и, приподняв голову мою, долго смотрела мне в лицо, так долго, что у меня слезы выступили на глазах.
– Ты что это?
– Шею больно.
Было больно и сердцу, я сразу почувствовал, что не будет она жить в этом доме, уйдет.
– Ты будешь похож на отца, – сказала она, откидывая ногами половики в сторону. – Бабушка рассказывала тебе про него?
– Да.
– Она очень любила Максима, – очень! И он ее тоже…
– Я знаю.
Мать посмотрела на свечу, поморщилась и погасила ее, сказав:
– Так лучше!
Да, так свежее и чище, перестали возиться темные, грязные тени, на пол легли светло-голубые пятна, золотые искры загорелись на стеклах окна.
– А где ты жила?
Словно вспоминая давно забытое, она назвала несколько городов и все кружилась по комнате, бесшумно, как ястреб.
– А где ты взяла такое платье?
– Сама сшила. Я все себе делаю сама.
Было приятно, что она ни на кого не похожа, но грустно, что говорит она мало, а если не спрашивать ее, так она и совсем молчит.
Потом она снова села ко мне на диван, и мы сидели молча, близко прижавшись друг ко другу, до поры, пока не пришли старики, пропитанные запахом воска, ладана, торжественно тихие и ласковые.
– Отходят все, все в сторону норовят – все врозь идет… Ну, зови ее, что ли! Скорее уж…
Бабушка пошла вон из кухни, а он, наклоня голову, сказал в угол:
– Всемилостивый Господи, ну – вот, видишь, вот!
И крепко, гулко ударил себя кулаком в грудь; мне это не понравилось, мне вообще не нравилось, как он говорит с богом, всегда будто хвастаясь пред ним.
Пришла мать, от ее красной одежды в кухне стало светлее, она сидела на лавке у стола, дед и бабушка – по бокам ее, широкие рукава ее платья лежали у них на плечах, она тихонько и серьезно рассказывала что-то, а они слушали ее молча, не перебивая. Теперь они оба стали маленькие, и казалось, что она – мать им.
Уставший от волнений, я крепко заснул на полатях.
Вечером старики, празднично одевшись, пошли ко всенощной, бабушка весело подмигнула на деда, в мундире цехового старшины, в енотовой шубе и брюках навыпуск, подмигнула и сказала матери:
– Ты гляди, каков отец-то, – козленок чистенький!
Мать весело засмеялась.
Когда я остался с нею в ее комнате, она села на диван, поджав под себя ноги, и сказала, хлопнув ладонью рядом с собою:
– Иди ко мне! Ну, как ты живешь – плохо, а?
Как я жил?
– Не знаю.
– Дедушка бьет?
– Теперь – не очень уж.
– Да? Ты расскажи мне, что хочешь, – ну?
Рассказывать о дедушке не хотелось, я начал говорить о том, что вот, в этой комнате жил очень милый человек, но никто не любил его, и дед отказал ему от квартиры. Видно было, что эта история не понравилась матери, она сказала:
– Ну, а еще что?
Я рассказал о трех мальчиках, о том, как полковник прогнал меня со двора, – она обняла меня крепко.
– Экая дрянь…
И замолчала, прищурясь, глядя в пол, качая головой. Я спросил:
– За что дед сердился на тебя?
– Я пред ним виновата.
– А ты бы привезла ему ребенка-то…
Она откачнулась, нахмурясь, закусив губы, и – захохотала, тиская меня.
– Ах ты, чудовище! Ты – молчи об этом, слышишь? Молчи и – не думай даже!
Долго говорила что-то тихо, строго и непонятно, потом встала и начала ходить, стукая пальцами о подбородок, двигая густыми бровями.
На столе горела, оплывая и отражаясь в пустоте зеркала, сальная свеча, грязные тени ползали по полу, в углу перед образом теплилась лампада, ледяное окно серебрил лунный свет. Мать оглядывалась, точно искала чего-то на голых стенах, на потолке.
– Ты когда ложишься спать?
– Немножко погодя.
– Впрочем, ты днем спал, – вспомнила она и вздохнула. Я спросил:
– Ты уйти хочешь?
– Куда же? – удивленно откликнулась она и, приподняв голову мою, долго смотрела мне в лицо, так долго, что у меня слезы выступили на глазах.
– Ты что это?
– Шею больно.
Было больно и сердцу, я сразу почувствовал, что не будет она жить в этом доме, уйдет.
– Ты будешь похож на отца, – сказала она, откидывая ногами половики в сторону. – Бабушка рассказывала тебе про него?
– Да.
– Она очень любила Максима, – очень! И он ее тоже…
– Я знаю.
Мать посмотрела на свечу, поморщилась и погасила ее, сказав:
– Так лучше!
Да, так свежее и чище, перестали возиться темные, грязные тени, на пол легли светло-голубые пятна, золотые искры загорелись на стеклах окна.
– А где ты жила?
Словно вспоминая давно забытое, она назвала несколько городов и все кружилась по комнате, бесшумно, как ястреб.
– А где ты взяла такое платье?
– Сама сшила. Я все себе делаю сама.
Было приятно, что она ни на кого не похожа, но грустно, что говорит она мало, а если не спрашивать ее, так она и совсем молчит.
Потом она снова села ко мне на диван, и мы сидели молча, близко прижавшись друг ко другу, до поры, пока не пришли старики, пропитанные запахом воска, ладана, торжественно тихие и ласковые.