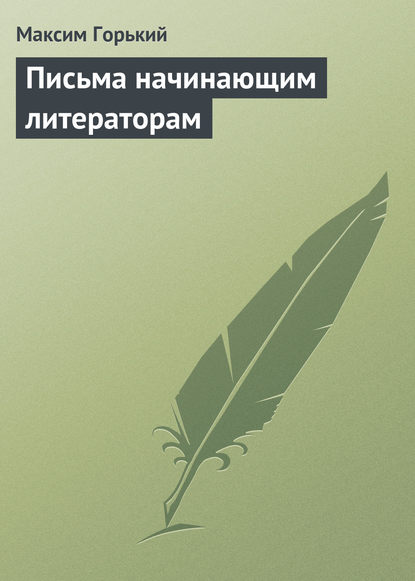По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письма начинающим литераторам
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он, болван, должен бы сказать Вам, что 130 лет тому назад, в 1708 году, англичанин Томас Мальтус напечатал книгу «Опыт о законе народонаселения». В книге этой он доказывает, что население земного шара увеличивается быстрее, чем средства существования. Доказательства его целиком опровергнуты не только К. Марксом, но и буржуазными учёными Кэри, Бастиа, Гербертом Спенсером. Опровержения эти в общем сводятся к тому, что чем разумнее – интеллектуальней – животное, тем медленнее размножается оно. Слон даёт одного детеныша за 20–24 месяца, боров оплодотворяет до 40 самок, а свинья беременеет только 8 месяцев и приносит до десятка поросят.
В человеческом обществе мы видим то же самое: чем менее культурны люди – тем больше у них детей; население деревень везде и всюду более плодовито, чем население городов. Крестьянки рожают почти ежегодно, а вот богатая и зажиточная буржуазия всё более широко применяет систему «двух детей». Отсюда ясно, что бессмысленное размножение людей может быть регулировано и уже регулируется разумом.
Но дело не только в этом, а и в том, что когда писал Мальтус и даже Маркс, они не могли предвидеть того сказочно быстрого роста науки и техники, которые, непрерывно развиваясь, обогащают человечество всё более. Распространение автомобилей делает ненужными лошадей, и огромные пространства земли, которая засевалась овсом, отходят под пшеницу, под рожь. Науки микробиология и химия, вмешиваясь в сельское хозяйство, ставят целью своей увеличение урожаев и успешно добиваются этой цели. Химия даёт огромные количества удобрений, истребляет вредителей хлеба, насекомых саранчу, «кузьку», «гессенскую муху» и прочих, а также грызунов – суслика, полевую мышь и других. Повысить урожаи хлеба, количество питательных веществ – это уже в силе и воле человека. Вам, крестьянину, всё это надо бы знать, и знать это Вам гораздо полезнее, чем подсчитывать, да ещё и неверно, рост населения. Дело это не Ваше и совершенно зря «взбрело в башку» Вам, как говорил отличный знаток крестьянства, писатель Глеб Успенский.
Тот, кто Вас познакомил с теорией Мальтуса, не сказал Вам, что теория эта очень понравилась помещикам, фабрикантам и вообще богатым людям. Она дала им возможность сваливать вину свою за нищету рабочих людей на самих рабочих и крестьян; опираясь на Мальтуса, богачи доказывали, что причина нищеты крестьянства и рабочего класса – не в малоземелье, не в плохой обработке полей, не в грошовой заработной плате и вообще – не в грабеже богачей, а именно в том, что трудовой народ быстро размножается. Далее они доказывали тоже, что и Вы: нет никаких мер и способов улучшить бедственное положение трудового народа, ничем нельзя помочь ему жить лучше, и даже не следует помогать. Мальтус считал вредной даже общественную помощь бедным, находя, что она только плодит нищих.
Так вот какие идеи проповедуете Вы, крестьянин «косопузой» – как вы пишете – губернии. Очень жалею людей, которым внушаете Вы эти идейки. А человек, который внушил эти идеи Вам, – он, на мой взгляд, негодяй и – враг трудового народа.
Вам бы, вместо того чтоб проповедовать подленькие глупости, лучше заняться чем-нибудь другим. Подумать бы о том, сколько ни на что не нужного кустарника и дерева, не годного в дело, истощает землю, сколько ценных соков её поглощают сорные травы, как вредят они хлебам, как много пахотной земли уничтожают овраги, как много у нас болот, которые надобно осушить, как много засушливых мест, которые можно бы оросить водами рек, которые бесплодно исчезают в морях, – и ещё о многом Вам, крестьянину, следовало бы подумать. И поучиться следует. А то Вы Маркса и Ленина критикуете, а ни того, ни другого не читали и о научном социализме не имеете никакого представления.
Между прочим, подумали бы и о том, как мелкое частное хозяйство истощает землю, и подсчитали бы, как велик для государства вред некультурного, неумелого землепользования.
IX
Книгу Вашу прочитал. Грамотная книга, и хотя её тема многократно разрабатывалась, измята, огрублена, всё же Вашу книгу читал с интересом. Возможно, что интерес этот возбуждён личной встречей с Вами и отразился на отношении к Вашему роману. Но всё-таки в общем роман этот я не могу признать удачным.
Уже в титуле романа чувствуется претензия автора на своеобразие, а затем почти на каждой из 240 страниц убеждаешься, что это своеобразие идёт «от ума», далось автору с трудом и сильно помешало: автору – быть более искренним, книге – более убедительной. Вам хотелось написать «не как другие», но, стремясь к этому, насилуя себя, Вы написали хуже того, как могли бы. Разумеется, речь идёт не только о форме, хотя и форма может испортить материал любой ценности.
«Отца» Вы взяли поверхностно, как берут и изображают его все молодые наши литераторы: отец – социальная особь, которую отличает от сына только «умонастроение», которое образовалось на почве бытовых привычек, навыков и так далее. Мне кажется, что отца как «тип» пора уже рассматривать пристальнее, глубже, не только как социальную, классовую особь, но как особь биологическую. Даже в том случае, когда отец прошёл университет, прочитал все лучшие книги, – над всеми его «знаниями» преобладает, в огромном большинстве случаев, многовековый социальный опыт его предков, а этот «опыт веков» в человеческом обществе не мог не иметь определённого биологического влияния. Я говорю не о наследственности, а о чём-то более глубоком, более консервативном, что прячется за «умонастроением», делая отцов и детей органически неспособными понять друг друга.
Как литературный тип – отец должен глубоко чувствовать, что он защищает порядок жизни, установленный веками, порядок, для него столь же органически необходимый, как рыбе – вода, червю – земля, и должен чувствовать, что революционная воля его сына возникла именно для того, чтоб разрушить, уничтожить и почву, и атмосферу, и всё, от крупнейшего до ничтожно мелочного, в чём он, отец, приспособился жить, без чего он жить не может.
Сын как тип должен воплощать революционную волю, для которой цель – в будущем, а в настоящем, которое воплощает и защищает отец, нет для него, сына, ничего, что не мешало бы росту его воли, не затрудняло бы её работу.
Столкновение Ивана Пятова со своим сыном Петром Пятовым – это частный случай, ничтожный эпизод трагедии, назревающей в наши дни, и, если мы хотим хорошо почувствовать огромнейшее, историческое значение этой трагедии, мы должны изобразить основных её героев именно как типы, как столкновение двух совершенно непримиримых мироощущений. Возможны, разумеется, дробления этой основной темы, но дробить надобно так, чтоб подлинный и глубокий смысл темы был освещён ярко. Основной же смысл – прост: беспощадная борьба за и против «священного института частной собственности», источника всех несчастий жизни, всех преступлений, всех уродств.
Представьте себе сына – белогвардейца случайного, «мобилизованного», который вдруг понял или постепенно понимает, что его рукою истребляются люди – может быть, его друзья – только для того, чтоб существовало частное хозяйство папаши, как оно существовало века.
Возведите это частное хозяйство на степень кошмара, созданного отцом по силе его веры в это хозяйство как единственно прочную основу жизни, изобразите детей как жертв этого кошмарного плена и жизнь их как тюрьму под открытым небом. Таких тем очень много.
Теперь – по поводу стиля Вашей книги. «Бессмысленная, вялая какая-то, скучная смерть веяла ровным дыханием», – пишете Вы на 129 странице. Это очень характерная фраза для Вас. А ведь в ней, несмотря на три определения понятия «смерть», – нет ясности. Сказать «вялая смерть» и прибавить к слову «вялая» – «какая-то» – это значит подвергнуть сомнению правильность эпитета «вялая». Затем Вы добавляете – «скучная», – к чему это нагромождение? «Редкие и безлистные ещё липы», – почему «ещё липы», а не «ещё безлистные», что гораздо проще? Очень запутаны слова на страницах 166–167. И всё это напутано Вами в поисках своеобразия, а искать Вам следовало простоты и ясности языка.
На вопрос Ваш: «Могу ли я писать в наше время?» – я ответил бы утвердительно, если бы Вы в письме не заявили о «разладе» между Вашим «мировоззрением и мироощущением».
Выше я рассказал, как понимается мною этот «разлад» – болезнь, видимо, нередкая среди людей Вашего поколения и Вашей социальной среды. С моей точки зрения, крайне пагубно для человека, если в нём совмещаются – или противоборствуют – революционное «умонастроение» с «мироощущением» его отца, а очевидно, это так: «от ума» человек – революционер, а по инстинкту, по эмоциям – контрреволюционер. Иначе я не могу понять «разлада». И само собою разумеется, что при наличии такого «разлада» Вы едва ли в силах будете работать согласно требованиям эпохи, с пользой интересам выразителя воли эпохи – рабочего класса.
Затем Вы сознаётесь: «Я не могу писать без фокусов, меня фокусы увлекают, за фразой я забываю цель». Это – плохо. Очень. Сообразите: кому нужна Ваша фраза, строить которую просто и ясно Вы не умеете? Да если б и умели – кому нужна фраза, смысл которой, наверное, будет двойственным вследствие разлада Вашего умонастроения с Вашим мироощущением? Вы пишете: «Я основательно штудировал философов», – так ли основательно, как это кажется Вам? Думаю, что Вы ошибаетесь, – иначе Вы не поставили бы Шервуда Андерсона, у которого нет никакой «философии», а прямая зависимость от плохо понятого им Чехова, – не поставили бы Андерсона рядом с Гамсуном, который пришёл к признанию рока и необходимости покоряться ему, как это явствует из его последних книг: «Соки земли», «Санатория Таррахаус», «Бродяги».
Странное впечатление вызвало у меня Ваше письмо. Поколение Ваше вошло в жизнь торжественно, «в огне и буре». Мир старый встретил вас враждой и ненавистью, которые, казалось бы, могут возбудить только сильные люди. Задачи, которые вы решаете, огромны и должны бы всецело владеть умом и чувством Вашими. Дело, которому Вы служите ежедневно, – дело грандиозное, небывалое по смелости, – несмотря на его кажущуюся мелочность и раздробленность. В руках ваших тот Архимедов рычаг, которым только и можно «перевернуть мир».
И вдруг – разлад между «умонастроением» и «мироощущением». Странно.
X
Я думаю, что такие работы, как «Язык селькора», преждевременны и даже могут оказать немалый вред нормальному росту языка. В работе Вашей желаемое предшествует сущему и торопливость выводов, основанных на материале сомнительной ценности, ведёт к тому, что Вы принимаете «местные речения», «провинциализмы» за новые, оригинальные словообразования, – тогда как материал Ваш говорит мне только о том, что великолепнейшая, афористическая русская речь, образное и меткое русское слово – искажаются и «вульгаризируются».
Этот процесс вульгаризации крепко и отлично оформленного языка процесс естественный, неизбежный; французский язык пережил его после «Великой революции», когда бретонцы, нормандцы, провансальцы и т. д. столкнулись в буре событий; этому процессу всегда способствуют войны, армии, казармы. Зря опороченная Демьяном Бедным весьма ценная книга Софьи Федорченко «Народ на войне», а также превосходная книга Войтоловского «По следам войны» были бы крайне полезны для Вас, видимо, искреннего и пламенного словолюба.
Мне тоже приходится читать очень много писем рабселькоров, «начинающих» литераторов, учащейся молодёжи, и у меня именно такое впечатление: русская речь искажается, вульгаризируется, её чёткие формы пухнут, насыщаясь местными речениями, поглощая слова из лексикона нацменьшинств и т. д., – речь становится менее образной, точной, меткой, более многословной, вязкой, слова весьма часто становятся рядом со смыслом, не включая его в себя. Но я уже сказал, что это – процесс естественный, неизбежный и, в сущности, это – процесс обогащения, расширения лексикона, но покамест, на мой взгляд, ещё не процесс словотворчества, совершенно сродного духу нашего языка, а – механический процесс.
Вы, как вижу, думаете иначе. Вы торопитесь установить и утвердить то, что Вам кажется словотворчеством; чисто внешнее обогащение речи Вы принимаете как творчество. Весьма много людей буржуазного класса нашего говорили по-французски, но это отнюдь не делало их более культурными людьми.
Ваша работа говорит мне, что современный грамотный крестьянин владеет языком гораздо хуже, чем владели мужики Левитова, Глеба Успенского и т. д., что речь селькора беднее образностью, точностью, меткостью, чем речь солдат Федорченко и Войтоловского.
Нельзя противопоставлять «сардонический», «мефистофелевский» смех «медовому», «колокольчатому» смеху девушки. Девушка-то ещё не научилась смеяться «сардонически». Сардонический и медовый – это языки людей совершенно различных по психике. Медовый смех – не новость. Вы его, наверное, найдёте у Андрея Печёрского – «В лесах» – и найдёте в старинных песнях.
Ты мне, девка, сердце сомутила
Злой твоей усмешкою медовой…
– сказано в переводе песен Вука Караджича.
Также нельзя противопоставлять «голубой» ливень «жестокому», – хотя это различные отношения к одному и тому же явлению, но ведь и лирически настроенный крестьянин может назвать ливень «голубым», когда дождь идёт «сквозь солнце».
«Колокольчатый» смех – очень плохо, потому что неточно, колокола слишком разнообразны по размеру и по звуку, «медный» смех – воображаете Вы? Правильно сравнивают смех с бубенчиками, особенно – если их слышишь издали.
Словечко «милозвучно» Вы напрасно считаете новым, оно есть у Карамзина, а кроме того, Вы его, наверное, встретите в «кантатах», которые распевались крепостными хорами. В кантатах этих встречаются «лилейнолицые девицы», «зефирно нежный голосок». В 1903 году мужики под Пензой пели: «Зефир тихий по долине веет с милой страны, с родной Костромы».
Слово «обман» Вы взяли из разных областей; у Фета и других поэтов он «сладостен» и «прекрасен», по преимуществу в области романтической, а у селькоров – в области отношений социальных. Но ведь и селькорам не избежать «сладостных» обманов.
Мне кажется, что, работая по словотворчеству, необходимо знать наш богатейший фольклор, особенно же наши изумительно чёткие, меткие пословицы и поговорки. «Пословица век не сломится». Наша речь преимущественно афористична, отличается своей сжатостью, крепостью. И замечу, что в ней антропоморфизм не так обилен, как в примерах, которыми Вы орудуете, а ведь антропоморфизм, хотя и неизбежен, однако стесняет воображение, фантазию, укорачивает мысль.
Всё это сказано мною из опасения такого: если мы признаем, что процесс механического обогащения лексикона и есть процесс творчества новой речи, будто бы отвечающей вполне согласно новым мыслям и настроениям, – мы этим признанием внушим рабселькорам и молодым литераторам, что они достаточно богаты словесным материалом и вполне правильно «словотворят». Это будет неверно, вредно.
Дело в том, что современные молодые литераторы вообще плохо учатся и туго растут поэтому. Один из них сказал: «Когда сам напишешь книгу, перестаёшь читать». Должно быть, это верно: есть целый ряд авторов, которые, написав одну книгу неплохо, вторую дают хуже, а третью – ещё хуже. Критика не учит, как надобно работать над словом.
XI
Рассказ Ваш – плох, но хорошо, что Вы сами чувствуете это; а хорошо это потому, что говорит о наличии у Вас чутья художественной правды. Рассказ именно потому и плох, что художественная правда нарушена Вами.
Нарушили Вы её неудачно выбранным Вами языком. Вы взялись рассказать людям действительный случай озверения «хозяйственного мужичка», который метит попасть в мироеды, – ради этой цели он предаёт белобандитам своих односельчан и своих детей, комсомольцев. Совершенно правильно Вы отметили, что хотя герою Вашему жалко жену, убитую белыми, и ещё более жалко сына, убитого ими же, – но всё-таки это чувство жалости не мешает ему попытаться ещё раз повредить советской группе односельчан и в их числе второму сыну, которого он, отец, убивает уже своею рукой.
В той беспощадной и неизбежной борьбе отцов и детей, которая началась, развивается и может окончиться только полной победой нового человека, социалиста, – случай, Вами рассказанный, всё же случай исключительный по звериной жестокости отца и по драматизму. Рассказать этот случай Вам следовало очень просто, точными словами, серьёзнейшим и даже суровым тоном. Если б Вы это сделали, рассказ Ваш зазвучал бы убедительно и приобрёл вместе с художественной правдой социально-воспитательное значение.
Вы рассказали многословно, с огромным количеством ненужных и ничего не говорящих фраз, как, например: «Вздрогнула мортира». «Мортира заплевалась огнём лихорадочно часто». «Замелькали убегающие фигуры. Скрылись в деревню».
Говорить такими рваными фразами не значит изображать – делать описываемое видимым для читателя. Драматизм рассказа такими сухими формами Вы уничтожили.
Участие «мортиры» в бою – весьма сомнительно. Как учитель, Вы должны знать, что «заплеваться» значит – заплевать себя.
Герой Ваш слишком многоречив и психологичен. Он у Вас рассуждает над трупом сына.
«Лучше посмотреть. Может, не он. Может… Нет, он, Алёша. Вот и родинка на щеке. И кудри… такие белые-белые, и кровь грязными сгустками в волосах».
Это – фальшиво. Вы облыжно приписали такие нежности Петру, – люди его типа, чувствуя, не рассуждают. Пётр – получеловек, способный убить сына своего за то, что сын не хочет жить той дикой, звериной жизнью, которой привык жить он, отец.
Когда Вы начинали писать рассказ – Вы знали, каков его конец: Пётр убьёт Александра. Это обязывало Вас рисовать фигуру предателя и сыноубийцы в тоне именно суровой сдержанности, резкими штрихами, без лишних слов. Вы же приписали Петру мысли и чувства, которые раздваивают его, показывая читателю то сентиментального мужичка, выдуманного писателями-«народниками», то – зверя, – и в обоих случаях он у Вас неубедителен. Кратко говоря – Вы испортили хороший материал.
Это случилось с Вами потому, что Вы придерживались правды только одного известного Вам факта. Но также, как из одной штуки даже очень хорошего кирпича нельзя построить целого дома, так описанию одного факта нельзя придать характер типичного и художественно правдивого явления, убедительною для читателя.
В человеческом обществе мы видим то же самое: чем менее культурны люди – тем больше у них детей; население деревень везде и всюду более плодовито, чем население городов. Крестьянки рожают почти ежегодно, а вот богатая и зажиточная буржуазия всё более широко применяет систему «двух детей». Отсюда ясно, что бессмысленное размножение людей может быть регулировано и уже регулируется разумом.
Но дело не только в этом, а и в том, что когда писал Мальтус и даже Маркс, они не могли предвидеть того сказочно быстрого роста науки и техники, которые, непрерывно развиваясь, обогащают человечество всё более. Распространение автомобилей делает ненужными лошадей, и огромные пространства земли, которая засевалась овсом, отходят под пшеницу, под рожь. Науки микробиология и химия, вмешиваясь в сельское хозяйство, ставят целью своей увеличение урожаев и успешно добиваются этой цели. Химия даёт огромные количества удобрений, истребляет вредителей хлеба, насекомых саранчу, «кузьку», «гессенскую муху» и прочих, а также грызунов – суслика, полевую мышь и других. Повысить урожаи хлеба, количество питательных веществ – это уже в силе и воле человека. Вам, крестьянину, всё это надо бы знать, и знать это Вам гораздо полезнее, чем подсчитывать, да ещё и неверно, рост населения. Дело это не Ваше и совершенно зря «взбрело в башку» Вам, как говорил отличный знаток крестьянства, писатель Глеб Успенский.
Тот, кто Вас познакомил с теорией Мальтуса, не сказал Вам, что теория эта очень понравилась помещикам, фабрикантам и вообще богатым людям. Она дала им возможность сваливать вину свою за нищету рабочих людей на самих рабочих и крестьян; опираясь на Мальтуса, богачи доказывали, что причина нищеты крестьянства и рабочего класса – не в малоземелье, не в плохой обработке полей, не в грошовой заработной плате и вообще – не в грабеже богачей, а именно в том, что трудовой народ быстро размножается. Далее они доказывали тоже, что и Вы: нет никаких мер и способов улучшить бедственное положение трудового народа, ничем нельзя помочь ему жить лучше, и даже не следует помогать. Мальтус считал вредной даже общественную помощь бедным, находя, что она только плодит нищих.
Так вот какие идеи проповедуете Вы, крестьянин «косопузой» – как вы пишете – губернии. Очень жалею людей, которым внушаете Вы эти идейки. А человек, который внушил эти идеи Вам, – он, на мой взгляд, негодяй и – враг трудового народа.
Вам бы, вместо того чтоб проповедовать подленькие глупости, лучше заняться чем-нибудь другим. Подумать бы о том, сколько ни на что не нужного кустарника и дерева, не годного в дело, истощает землю, сколько ценных соков её поглощают сорные травы, как вредят они хлебам, как много пахотной земли уничтожают овраги, как много у нас болот, которые надобно осушить, как много засушливых мест, которые можно бы оросить водами рек, которые бесплодно исчезают в морях, – и ещё о многом Вам, крестьянину, следовало бы подумать. И поучиться следует. А то Вы Маркса и Ленина критикуете, а ни того, ни другого не читали и о научном социализме не имеете никакого представления.
Между прочим, подумали бы и о том, как мелкое частное хозяйство истощает землю, и подсчитали бы, как велик для государства вред некультурного, неумелого землепользования.
IX
Книгу Вашу прочитал. Грамотная книга, и хотя её тема многократно разрабатывалась, измята, огрублена, всё же Вашу книгу читал с интересом. Возможно, что интерес этот возбуждён личной встречей с Вами и отразился на отношении к Вашему роману. Но всё-таки в общем роман этот я не могу признать удачным.
Уже в титуле романа чувствуется претензия автора на своеобразие, а затем почти на каждой из 240 страниц убеждаешься, что это своеобразие идёт «от ума», далось автору с трудом и сильно помешало: автору – быть более искренним, книге – более убедительной. Вам хотелось написать «не как другие», но, стремясь к этому, насилуя себя, Вы написали хуже того, как могли бы. Разумеется, речь идёт не только о форме, хотя и форма может испортить материал любой ценности.
«Отца» Вы взяли поверхностно, как берут и изображают его все молодые наши литераторы: отец – социальная особь, которую отличает от сына только «умонастроение», которое образовалось на почве бытовых привычек, навыков и так далее. Мне кажется, что отца как «тип» пора уже рассматривать пристальнее, глубже, не только как социальную, классовую особь, но как особь биологическую. Даже в том случае, когда отец прошёл университет, прочитал все лучшие книги, – над всеми его «знаниями» преобладает, в огромном большинстве случаев, многовековый социальный опыт его предков, а этот «опыт веков» в человеческом обществе не мог не иметь определённого биологического влияния. Я говорю не о наследственности, а о чём-то более глубоком, более консервативном, что прячется за «умонастроением», делая отцов и детей органически неспособными понять друг друга.
Как литературный тип – отец должен глубоко чувствовать, что он защищает порядок жизни, установленный веками, порядок, для него столь же органически необходимый, как рыбе – вода, червю – земля, и должен чувствовать, что революционная воля его сына возникла именно для того, чтоб разрушить, уничтожить и почву, и атмосферу, и всё, от крупнейшего до ничтожно мелочного, в чём он, отец, приспособился жить, без чего он жить не может.
Сын как тип должен воплощать революционную волю, для которой цель – в будущем, а в настоящем, которое воплощает и защищает отец, нет для него, сына, ничего, что не мешало бы росту его воли, не затрудняло бы её работу.
Столкновение Ивана Пятова со своим сыном Петром Пятовым – это частный случай, ничтожный эпизод трагедии, назревающей в наши дни, и, если мы хотим хорошо почувствовать огромнейшее, историческое значение этой трагедии, мы должны изобразить основных её героев именно как типы, как столкновение двух совершенно непримиримых мироощущений. Возможны, разумеется, дробления этой основной темы, но дробить надобно так, чтоб подлинный и глубокий смысл темы был освещён ярко. Основной же смысл – прост: беспощадная борьба за и против «священного института частной собственности», источника всех несчастий жизни, всех преступлений, всех уродств.
Представьте себе сына – белогвардейца случайного, «мобилизованного», который вдруг понял или постепенно понимает, что его рукою истребляются люди – может быть, его друзья – только для того, чтоб существовало частное хозяйство папаши, как оно существовало века.
Возведите это частное хозяйство на степень кошмара, созданного отцом по силе его веры в это хозяйство как единственно прочную основу жизни, изобразите детей как жертв этого кошмарного плена и жизнь их как тюрьму под открытым небом. Таких тем очень много.
Теперь – по поводу стиля Вашей книги. «Бессмысленная, вялая какая-то, скучная смерть веяла ровным дыханием», – пишете Вы на 129 странице. Это очень характерная фраза для Вас. А ведь в ней, несмотря на три определения понятия «смерть», – нет ясности. Сказать «вялая смерть» и прибавить к слову «вялая» – «какая-то» – это значит подвергнуть сомнению правильность эпитета «вялая». Затем Вы добавляете – «скучная», – к чему это нагромождение? «Редкие и безлистные ещё липы», – почему «ещё липы», а не «ещё безлистные», что гораздо проще? Очень запутаны слова на страницах 166–167. И всё это напутано Вами в поисках своеобразия, а искать Вам следовало простоты и ясности языка.
На вопрос Ваш: «Могу ли я писать в наше время?» – я ответил бы утвердительно, если бы Вы в письме не заявили о «разладе» между Вашим «мировоззрением и мироощущением».
Выше я рассказал, как понимается мною этот «разлад» – болезнь, видимо, нередкая среди людей Вашего поколения и Вашей социальной среды. С моей точки зрения, крайне пагубно для человека, если в нём совмещаются – или противоборствуют – революционное «умонастроение» с «мироощущением» его отца, а очевидно, это так: «от ума» человек – революционер, а по инстинкту, по эмоциям – контрреволюционер. Иначе я не могу понять «разлада». И само собою разумеется, что при наличии такого «разлада» Вы едва ли в силах будете работать согласно требованиям эпохи, с пользой интересам выразителя воли эпохи – рабочего класса.
Затем Вы сознаётесь: «Я не могу писать без фокусов, меня фокусы увлекают, за фразой я забываю цель». Это – плохо. Очень. Сообразите: кому нужна Ваша фраза, строить которую просто и ясно Вы не умеете? Да если б и умели – кому нужна фраза, смысл которой, наверное, будет двойственным вследствие разлада Вашего умонастроения с Вашим мироощущением? Вы пишете: «Я основательно штудировал философов», – так ли основательно, как это кажется Вам? Думаю, что Вы ошибаетесь, – иначе Вы не поставили бы Шервуда Андерсона, у которого нет никакой «философии», а прямая зависимость от плохо понятого им Чехова, – не поставили бы Андерсона рядом с Гамсуном, который пришёл к признанию рока и необходимости покоряться ему, как это явствует из его последних книг: «Соки земли», «Санатория Таррахаус», «Бродяги».
Странное впечатление вызвало у меня Ваше письмо. Поколение Ваше вошло в жизнь торжественно, «в огне и буре». Мир старый встретил вас враждой и ненавистью, которые, казалось бы, могут возбудить только сильные люди. Задачи, которые вы решаете, огромны и должны бы всецело владеть умом и чувством Вашими. Дело, которому Вы служите ежедневно, – дело грандиозное, небывалое по смелости, – несмотря на его кажущуюся мелочность и раздробленность. В руках ваших тот Архимедов рычаг, которым только и можно «перевернуть мир».
И вдруг – разлад между «умонастроением» и «мироощущением». Странно.
X
Я думаю, что такие работы, как «Язык селькора», преждевременны и даже могут оказать немалый вред нормальному росту языка. В работе Вашей желаемое предшествует сущему и торопливость выводов, основанных на материале сомнительной ценности, ведёт к тому, что Вы принимаете «местные речения», «провинциализмы» за новые, оригинальные словообразования, – тогда как материал Ваш говорит мне только о том, что великолепнейшая, афористическая русская речь, образное и меткое русское слово – искажаются и «вульгаризируются».
Этот процесс вульгаризации крепко и отлично оформленного языка процесс естественный, неизбежный; французский язык пережил его после «Великой революции», когда бретонцы, нормандцы, провансальцы и т. д. столкнулись в буре событий; этому процессу всегда способствуют войны, армии, казармы. Зря опороченная Демьяном Бедным весьма ценная книга Софьи Федорченко «Народ на войне», а также превосходная книга Войтоловского «По следам войны» были бы крайне полезны для Вас, видимо, искреннего и пламенного словолюба.
Мне тоже приходится читать очень много писем рабселькоров, «начинающих» литераторов, учащейся молодёжи, и у меня именно такое впечатление: русская речь искажается, вульгаризируется, её чёткие формы пухнут, насыщаясь местными речениями, поглощая слова из лексикона нацменьшинств и т. д., – речь становится менее образной, точной, меткой, более многословной, вязкой, слова весьма часто становятся рядом со смыслом, не включая его в себя. Но я уже сказал, что это – процесс естественный, неизбежный и, в сущности, это – процесс обогащения, расширения лексикона, но покамест, на мой взгляд, ещё не процесс словотворчества, совершенно сродного духу нашего языка, а – механический процесс.
Вы, как вижу, думаете иначе. Вы торопитесь установить и утвердить то, что Вам кажется словотворчеством; чисто внешнее обогащение речи Вы принимаете как творчество. Весьма много людей буржуазного класса нашего говорили по-французски, но это отнюдь не делало их более культурными людьми.
Ваша работа говорит мне, что современный грамотный крестьянин владеет языком гораздо хуже, чем владели мужики Левитова, Глеба Успенского и т. д., что речь селькора беднее образностью, точностью, меткостью, чем речь солдат Федорченко и Войтоловского.
Нельзя противопоставлять «сардонический», «мефистофелевский» смех «медовому», «колокольчатому» смеху девушки. Девушка-то ещё не научилась смеяться «сардонически». Сардонический и медовый – это языки людей совершенно различных по психике. Медовый смех – не новость. Вы его, наверное, найдёте у Андрея Печёрского – «В лесах» – и найдёте в старинных песнях.
Ты мне, девка, сердце сомутила
Злой твоей усмешкою медовой…
– сказано в переводе песен Вука Караджича.
Также нельзя противопоставлять «голубой» ливень «жестокому», – хотя это различные отношения к одному и тому же явлению, но ведь и лирически настроенный крестьянин может назвать ливень «голубым», когда дождь идёт «сквозь солнце».
«Колокольчатый» смех – очень плохо, потому что неточно, колокола слишком разнообразны по размеру и по звуку, «медный» смех – воображаете Вы? Правильно сравнивают смех с бубенчиками, особенно – если их слышишь издали.
Словечко «милозвучно» Вы напрасно считаете новым, оно есть у Карамзина, а кроме того, Вы его, наверное, встретите в «кантатах», которые распевались крепостными хорами. В кантатах этих встречаются «лилейнолицые девицы», «зефирно нежный голосок». В 1903 году мужики под Пензой пели: «Зефир тихий по долине веет с милой страны, с родной Костромы».
Слово «обман» Вы взяли из разных областей; у Фета и других поэтов он «сладостен» и «прекрасен», по преимуществу в области романтической, а у селькоров – в области отношений социальных. Но ведь и селькорам не избежать «сладостных» обманов.
Мне кажется, что, работая по словотворчеству, необходимо знать наш богатейший фольклор, особенно же наши изумительно чёткие, меткие пословицы и поговорки. «Пословица век не сломится». Наша речь преимущественно афористична, отличается своей сжатостью, крепостью. И замечу, что в ней антропоморфизм не так обилен, как в примерах, которыми Вы орудуете, а ведь антропоморфизм, хотя и неизбежен, однако стесняет воображение, фантазию, укорачивает мысль.
Всё это сказано мною из опасения такого: если мы признаем, что процесс механического обогащения лексикона и есть процесс творчества новой речи, будто бы отвечающей вполне согласно новым мыслям и настроениям, – мы этим признанием внушим рабселькорам и молодым литераторам, что они достаточно богаты словесным материалом и вполне правильно «словотворят». Это будет неверно, вредно.
Дело в том, что современные молодые литераторы вообще плохо учатся и туго растут поэтому. Один из них сказал: «Когда сам напишешь книгу, перестаёшь читать». Должно быть, это верно: есть целый ряд авторов, которые, написав одну книгу неплохо, вторую дают хуже, а третью – ещё хуже. Критика не учит, как надобно работать над словом.
XI
Рассказ Ваш – плох, но хорошо, что Вы сами чувствуете это; а хорошо это потому, что говорит о наличии у Вас чутья художественной правды. Рассказ именно потому и плох, что художественная правда нарушена Вами.
Нарушили Вы её неудачно выбранным Вами языком. Вы взялись рассказать людям действительный случай озверения «хозяйственного мужичка», который метит попасть в мироеды, – ради этой цели он предаёт белобандитам своих односельчан и своих детей, комсомольцев. Совершенно правильно Вы отметили, что хотя герою Вашему жалко жену, убитую белыми, и ещё более жалко сына, убитого ими же, – но всё-таки это чувство жалости не мешает ему попытаться ещё раз повредить советской группе односельчан и в их числе второму сыну, которого он, отец, убивает уже своею рукой.
В той беспощадной и неизбежной борьбе отцов и детей, которая началась, развивается и может окончиться только полной победой нового человека, социалиста, – случай, Вами рассказанный, всё же случай исключительный по звериной жестокости отца и по драматизму. Рассказать этот случай Вам следовало очень просто, точными словами, серьёзнейшим и даже суровым тоном. Если б Вы это сделали, рассказ Ваш зазвучал бы убедительно и приобрёл вместе с художественной правдой социально-воспитательное значение.
Вы рассказали многословно, с огромным количеством ненужных и ничего не говорящих фраз, как, например: «Вздрогнула мортира». «Мортира заплевалась огнём лихорадочно часто». «Замелькали убегающие фигуры. Скрылись в деревню».
Говорить такими рваными фразами не значит изображать – делать описываемое видимым для читателя. Драматизм рассказа такими сухими формами Вы уничтожили.
Участие «мортиры» в бою – весьма сомнительно. Как учитель, Вы должны знать, что «заплеваться» значит – заплевать себя.
Герой Ваш слишком многоречив и психологичен. Он у Вас рассуждает над трупом сына.
«Лучше посмотреть. Может, не он. Может… Нет, он, Алёша. Вот и родинка на щеке. И кудри… такие белые-белые, и кровь грязными сгустками в волосах».
Это – фальшиво. Вы облыжно приписали такие нежности Петру, – люди его типа, чувствуя, не рассуждают. Пётр – получеловек, способный убить сына своего за то, что сын не хочет жить той дикой, звериной жизнью, которой привык жить он, отец.
Когда Вы начинали писать рассказ – Вы знали, каков его конец: Пётр убьёт Александра. Это обязывало Вас рисовать фигуру предателя и сыноубийцы в тоне именно суровой сдержанности, резкими штрихами, без лишних слов. Вы же приписали Петру мысли и чувства, которые раздваивают его, показывая читателю то сентиментального мужичка, выдуманного писателями-«народниками», то – зверя, – и в обоих случаях он у Вас неубедителен. Кратко говоря – Вы испортили хороший материал.
Это случилось с Вами потому, что Вы придерживались правды только одного известного Вам факта. Но также, как из одной штуки даже очень хорошего кирпича нельзя построить целого дома, так описанию одного факта нельзя придать характер типичного и художественно правдивого явления, убедительною для читателя.