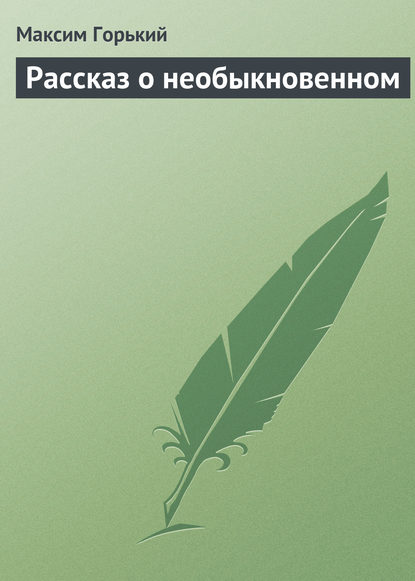По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказ о необыкновенном
Автор
Год написания книги
1925
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Признаться – подумал я: не Татьяна ли посоветовала Японцу доктора добить? Потому что у Японца табаку не было, а тут вдруг он папиросы курит и по знакам на коробке вижу я, что папиросы – Татьяниного дружка. Может быть, она это – из жалости, чтоб зря не мучился доктор. Бывало и так – убивали жалеючи.
Вот вы видите: я человек кроткий, а однако своей рукой прикончил беззащитного старичка, положим – не из жалости, а по другой причине. Я ведь говорил, что стариков – не люблю, считаю их вредными. Своим парням я всегда говорил:
– Стариков – не жалейте, они – вредные, от упрямства, от дряхлости. Молодой – переменится, а старикам перемениться – некуда. Они – самолюбивы, сами собой любуются; каждый думает: я – стар, я и – прав! Они – люди вчерашнего дня, о завтре старики боятся думать; он, на завтра, смерти ждёт, старик.
Тоже и насчёт разных хозяйственных вещей я учил:
– Крупную вещь – шкафы, сундуки, кровати – не ломай, не круши; а мелкое, пустяки разные, – бей в пыль! От пустяков всё горе наше.
Да. Так вот – пришлось мне соткнуться с одним ядовитым старичком. Началось с того, что заболел я тифом, сложили меня в селе одном, у хорошего хозяина, и провалялся я почти всю зиму. Сильно болел, всю память выжгло у меня, очнулся – ничего не понимаю, как будто года прошли мимо меня. Мужики, слышу, рычат, костят Москву, большевиков матерщиной кроют. В чём дело? И – нет-нет, а шмыгнёт селом старик в папахе, с палочкой в руке, быстрый такой старикашка, глазки у него тёмненькие, мохнатые и шевелятся в морщинках, как жуки, – есть такой жучок, крылья у него будто железные. Одет старик этот не отлично, а издали приметен.
Время – весеннее, я кое-как хожу, отдыхаю, присматриваюсь к людям, – другие люди, совсем чужие, кто уныло глядит, кто сердито, а бойкости, твёрдости – нет. Жалуются на поборы, на комиссаров. Я, конечно, разговариваю их, объясняю, хотя сам не очень понимал: в чём суть? И вот, сижу однова за селом, у поскотины[3 - пастбище, выгон для скота – Ред.], катится по дороге старик этот, землю палочкой меряет, углядел меня, отвернулся в сторону и плюнул. Стало мне это любопытно. Спрашиваю хозяина избы, где жил:
– Это кто же у вас?
– Это, говорит, человек праведный и умный; он обмана не терпит.
Говорит – нехотя, сурово.
Был там один человек, Никола Раскатов, инвалид войны, молодой парень, без ноги, без пальцев на левой руке, он мне подробно рассказал:
– Это – вредный старик, он тут у нас давно живёт, ссыльно-поселенец; раньше – пчёл разводил, а теперь построился в лесу, живёт отшельником, ложки режет, святым притворяется. Он с начала революции бубнил против её, а когда у него пасеку разорили – совсем обозлился. Теперь стал на всю округу известен, к нему издаля, вёрст за сто, приходят, советы даёт, рассказывает, что в Москве разбойники и неверы командуют, и всю чепуху, как заведено: сопротивляться велит.
И рассказал такой случай: воротились в одно село красноармейские солдаты, двое, а старики собрали сходку и говорят: «Это – злодеи. У этого его товарищи отца, мать убили, а у этого родительский дом сожгли, хозяйство разорили, так что родители его теперь в городе нищенствуют; будут эти ребята наших парней смущать, и предлагаем их казнить, чтобы дети наши видели: озорству – конец!» Связали голубчиков, положили головы ихние на бревно, и дядя красноармейца оттяпал головы им топором.
«Вот куда метнуло», – думаю. Приуныл даже. Кроме Раскатова, было там ещё с десяток парней новой веры, однако они, по молодости да со скуки, только с девками озорничали. Да и нечего кроме делать им, – отцы, деды наблюдают за ними, как за ворами, и – чуть что не по-прежнему парнишки затевают, – бьют их. Я внушаю им:
– Разве не видите, где злой узел завязан?
Боятся, говорят:
– Перебьют нас.
«Эх, думаю, черти не нашего бога!»
Решил я сам поговорить с этим стариком значительным, понимаю, что затевает он крутёж в обратную сторону, хочет годы назад повернуть. А я очень хорошо знаю, что деревенские люди – глупые, я к этому присмотрелся. У мужика для всех терпенья хватает, только для себя он потерпеть не хочет. Всё торопится покрепче сесть да побольше съесть.
Старик основался верстах в семи от села, на пригорке, у опушки леса; избёнка у него, как сторожка, в одно окно, огородишко не великий, гряд шесть, три колоды пчёл, собачонка лохматенькая – в этом всё его хозяйство. Пришёл я к нему светлым днём, сидит старик на пеньке у костра, над костром в камнях котёл кипит, – в котле чурбаки мякнут; на изгороди вершинки ёлок висят, лыком связаны, – мутовки будут, значит[4 - мутовка – палочка с крестом, кружком или рожками на конце, для пахтанья, мешанья и взбалтывания – Ред.]. Рукодельный старичок; согнулся, ложки режет, не глядит на меня. Одета на нём посконь[5 - холст, лучший, крестьянский рубашечный – Ред.] синяя, ноги – босые. Лысина светится, над правым ухом шишка торчит, вроде бы зародыша ещё другой головы, что ли. Чувствую – шишечка эта особенно злит мою душу.
– Вот, мол, пришёл я потолковать с тобой.
– Толкуй.
И – молчит. Действует ножом быстро, стружка так и брызжет на коленки, на ноги ему. Чурбаки сырые, режутся, как масло, от ножа никакого скрипа нет. В котле вода булькает, обок старика собака лает. А всё-таки – тихо кругом старика.
– Чего ради ты людей мутишь? – спрашиваю. – Какая твоя вера, какая затея?
Молчит. Опустил голову и даже глаз не поднимает на меня, как будто и нет перед ним человека. Ковыряет чурбак ножом и молчит, подобно глухому. Собачонка излаялась на меня до того, что дудкой свистит, а он и собаку унять не хочет. Сидит и только руками шевелит, да правое плечико играет у него, а кроме этого – весь недвижим, словно синий камень. Хорошо, спокойно вокруг его, старого чёрта; за избёнкой – пахучий лес, перед ней, внизу – долина, речка бежит, солнышко играет.
«Ишь ты, думаю, как ловко отделился от людей, колдун».
Очень досадно мне было. И ругал я его, и грозил ему – ничего не добился, ни единого слова не сказал он мне, так я дураком и ушёл. Иду, оглядываюсь: на пригорке костёр светит. Соображаю:
«Действительно – это вредный зверь, старик!»
Не скрою: задел он меня за душу нарочитой глухотой ко мне. Меня многие сотни людей слушали, а тут – на-ко!
Через сутки, что ли, хозяин, глядя в землю быком, говорит мне:
– Что ж, Князёв, отлежался ты, шёл бы теперь куда тебе надо.
И жена его, и обе снохи, и батрак-немец, – все глядят на меня уж неласково, говорят со мной грубо, – понял я, что старик рассказал им про меня. Да и все на селе избычились, будто не видят меня, а ещё недавно сами на разговор со мной лезли. Задумался я: человек одинокий, убрать меня в землю – очень просто. Кого это обидит? Кто на это пожалуется в такие строгие к человеку дни? И тут – вскипело у меня сердце.
Пошёл к Раскатову, говорю:
– Ну-ко, спрячь ты меня дня на три в незаметное местечко.
Простился я с хозяевами честь честью и будто бы на свету ушёл из села, а Раскатов запер меня в бане у себя, на чердаке. Сутки сижу, двое сижу и третьи сижу. А на четвёртые дождался ночи потемнее и пошёл. Завязал голыш в полотенце, вышло это орудие вроде кистеня. Был у меня и реворверт, я его Раскатову продал; для одинокого человека в дороге это инструмент опасный, – он характер жизни выдаёт.
Пришёл к старику, стучусь смело, думаю: он к ночным гостям, наверно, привык, не испугается. Верно: открыл он дверь, хоть и держится рукой за скобу, ну, я, конечно, ногу вставил между дверью и колодой и это – зря; старик сразу понял, что чужой пришёл. Храпит со сна:
– Кто таков? Чего надо?
Собачка его вцепилась в ногу мне, тут я старика – по руке, а собаку – пинком; собаку надо бить под морду, снизу вверх, эдак ей сразу голову с позвонка сшибёшь.
Вошёл в избу, дверь засовом запер, а старик, то ли ещё не узнал меня, то ли испугался, – бормочет:
– Почто собаку-то…
Шаркает спичками. Тут бы мне и ударить его, да это, видишь ли, не больно просто делается, к тому же и темно мне. Ну, засветил он лампу, а всё не глядит на меня, от беззаботности, что ли, а может, от страха. Это и мне жутко было, даже ноги тряслись, особенно – когда он, из-под ладони, взглянул на меня, подался, сел на лавку, упёрся в неё руками и – молчит, а глаза большие, бабьи, жалобные. И мне тоже будто жаль его, что ли. Однако говорю:
– Ну, старик, жизнь твоя кончена…
А рука у меня не поднимается.
Он бормочет, хрипит:
– Не боюсь. Не себя жалко – людей жалко, – не будет им утешения, когда я умру…
– Утешение твоё, говорю, это обман. Богу молиться будешь или как?
Встал он на колени, тут я его и ударил. Неприятно было – тошнота в грудях, и весь трясусь. До того одурел, что чуть не решился разбить лампу и поджечь избёнку, – был бы мне тогда – каюк! Прискакали бы на огонь мужики и догнали меня, нашли бы в лесу-то. Место мне незнакомое, далеко не уйдёшь. А так я прикрыл дверь и пошёл лесом в гору, до солнца-то вёрст двадцать отшагал, лёг спать, а на сонного на меня набрели белые разведчики, что ли, девятеро. Проснулся – готов! Сейчас, конечно, закричали: шпион, вешать! Побили немного. Я говорю:
– Что вы дерётесь? Что кричите? Тут, верстах в семи, большевики под горой стоят, сотни полторы, я от них сбежал, мобилизовать хотели…
Испугались, а – верят, вижу.
– Отчего кровь на онучах?