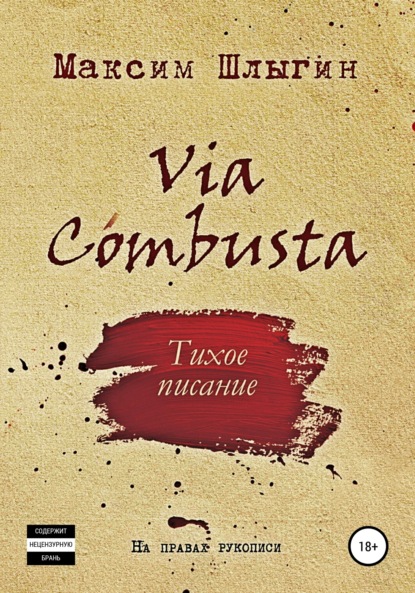По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Via Combusta
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В странное помещение с трясущимися стенами, жидким потолком и голодной мухой с чистыми руками уверенным шагом вошла молодая симпатичная незнакомая девушка в розовом медицинском комбинезоне, сшитом на удивление строго по её точёной фигурке. Перед собой девушка везла какую-то тележку с набором непонятного мигающего оборудования, проводов и прозрачных трубочек. С нижней полочки тележки раздавался мелкий дребезжащий звон катающихся по металлическим поддонам инструментов и пузырьков. Оглядев спокойным и ничего не выражающим взглядом пациента, медсестра откинула краешек тонкого одеяла с левой ноги Алексея, и, произнеся что-то короткое про обезболивающее, всадила ему в ногу больнющий укол, от которого бедро моментально свело в страшной судороге. Язык мгновенно отлип от зубов и позволил хозяину отметить эти неприятные ощущения от необходимой медицинской манипуляции протяжным горловым стоном.
– Терпи, Шумахер, – прохладно произнесла медсестра. – Сейчас подействует и станет полегче, а то тебя трясёт как осиновый лист. Дай-ка руку свою.
Девушка откинула одеяло ещё и с перебинтованной груди пациента, забыв вернуть уголок, покрывавший задубевшую в судороге ногу, перетянула жгутом плечо выше локтя и, дождавшись пока на трясущейся руке проявятся вены, загнала туда толстую игу с гибкой трубкой и включила какой-то прибор на тумбочке. По трубочке в Алексея побежала какая-то жидкость.
– Сейчас станет теплее и болеть должно перестать, – вернув одеяло на место сказала девушка. – Чувствуешь?
Да. Алексей почувствовал, что тепло словно растекается по всему организму, успокаивая дрожь и унимая боль. Судорога на бедре потихоньку стихала, и он с облегчением закрыл прослезившиеся глаза, поддавшись приятному ощущению успокоения.
– О, заработала пилюлька. Вижу. Теперь давай ногой твоей займёмся, – уже более бодро прозвучало от медсестры в сторону висевшего на металлическом штативе странного перебинтованного бревна.
Только сейчас Алексей увидел и осознал эту часть своего положения. На металлической вытяжке, закреплённой через заботливо просверленную докторами пятку, висела над кровесборником его правая нога. И, то ли от этой новости, то ли от введенного препарата, а то ли от резкой режущей боли процедурного характера, спровоцированной ловкими действиями медсестры, его повело, закружило снова и под звон в ушах выключило. Мысль о том, что, похоже, он крепко разбился и поломался, так и осталась недодуманной до конца.
Дальнейшее существование Вознесенского превратилось в непрекращающуюся череду коротких пробуждений и рваных отключек, иногда надолго, щедро сдобренных расписанными по минутам и мешающими провалиться в сон санитарными процедурами. Массивный опоясывающий гипсовый корсет на поломанной грудной клетке доводил до приступа бессильного бешенства, своей массой и жёстким конструктивом сковывая любые движения. Вынужденное состояние проживания, лежа в каменных доспехах, создавало не меньше дискомфорта, чем раздробленная и висящая через штырь на гире опухшая и посиневшая нога или через раз работающие внутренние органы. От обездвиженности в одном положении каждый час возникали судороги в руках, спине, ногах, проверяя своего хозяина на выдержку и долготерпение, словно по расписанию.
Постоянно хотелось есть. Однако множественные осколочные порезы на заштопанном лице Алексея напоминали о себе каждый раз, когда обладатель физиономии пытался хоть что-то пропустить себе в рот твёрже пустого больничного бульона. От перенесенного стресса и операционных вмешательств, он очень сильно потерял в весе и осунулся за непродолжительный период, представляя из себя довольно жалкое зрелище. Всё, что выпадало изо рта, застревало и засыхало в бороде, по соседству с подтёками запёкшейся крови. Красные заплаканные глаза старались не смотреть в сторону обездвиженной дырявой конечности, находя единственным развлечением созерцание ползающей по потолку жирной мухи. Мухи, у которой всё было нормально. Мухи, у которой не хрустела поломанными костями грудная клетка и не болела от сотряса башка, приводя к регулярным отключкам. Мухи, у которой все конечности были целыми и невредимыми. И чистыми, мать их за ногу. И которая могла улететь отсюда в любой момент и в любом направлении, но почему-то этого не делала. Будто ей доставляло какое-то странное удовольствие наблюдать за всеми мучениями Алексея. И эта скотина не отводила своего любопытного взгляда и не отворачивалась даже в интимные моменты личной гигиены.
И если физическую боль можно было как-то перенести, облегчая неприятные ощущения обезболивающими препаратами, то обезболить душевную боль было нечем. Сама мысль наполнить больничное судно рвала мозг Алексея на части, вызывая безумное отвращение, бессильную злобу и гадкое униженное состояние. Он ни при каких условиях был не готов просить медсестёр принести и подержать ему судно, пока он будет ходить под себя. Это вселяло дикий ужас в голову молодого мужчины, который не так давно был образцом пышущего здоровьем и достоинством носителя эталонного мужского генофонда, который все свои потребности обслуживал сам и только сам. Эта необхоимость доводила до блевотного состояния и сумасшествия, заглушая любую физическую боль. Но антибиотики работали и производили хороший побочный эффект. Поэтому, обессилевший Алексей чуть не плакал, пока молодая медсестра, деликатно опустив взгляд, держала под ним судно, с таким же нетерпением ожидая окончания опорожнения. И всякий раз в такие моменты зловонного унижения, которые на фоне антибиотиков случались куда чаще обычного, потолочная муха пялилась с издёвкой на измученного и опустошённого во все смыслах Алексея.
Однако, подавленное, растоптанное собственной беспомощностью, разбитое и раздробленное состояние Алексея довольно скоро дополнилось еще одним нюансом. Сколько именно прошло времени, Алексей точно сказать не мог, может, день, может, два или больше. Постепенно в сознании, стали всплывать отрывочные фрагменты воспоминаний. Под действием боли и медикаментов было ещё сложно воссоздать целостную картину происшедшего, но даже тех рваных кусков, которые возникали в памяти, было достаточно, чтобы сформировать стойкое и гнетущее ощущение чего-то непоправимого. Чего именно, Алексей не мог вспомнить, но ощущал, что его теперешнее состояние – это не единственная неприятность. И стоило ждать плохих новостей. Которые, кстати, не заставили себя долго ждать, и материализовались в палате в виде двух мужчин: лечащего врача и полицейского.
– Как вы себя чувствуете, пациент? – холодно спросил Алексея лечащий врач.
– Хреново, – процедил сквозь зубы Алексей.
– Всё, как вы и хотели, милейший. Говорить можете? – продолжил доктор.
– Говорю же, – ответил Алексей и утвердительно моргнул.
– Хорошо. К вам пришёл сотрудник из полиции для беседы. Я вас оставлю на пятнадцать-двадцать минут, не дольше. Вы меня поняли? – вопросительно обратился доктор к каменному лицу полицейского. – Он ещё слишком слаб. Большая внутричерепная гематома. Поэтому не более двадцати минут.
– Я вас услышал, – мигом среагировал сотрудник полиции. – Мне хватит.
– Хорошо. Тогда оставляю вас. Общайтесь, – произнёс строго доктор и вышел из палаты.
– Здравствуйте, – очень холодным тоном начал полицейский. – Меня зовут Роман Константинович Смирнов, капитан полиции. Мне поручено вести ваше дело.
– Дарова, капитан Смирнов. Лёша, – осторожно поприветствовал его Алексей.
– Вы помните обстоятельства происшествия?
– Очень смутно. Я на тачке ехал, помню.
– Да. Если коротко, то вы двигались на своем автомобиле по Кутузовскому проспекту в сторону области с превышением скорости. И, выскочив на выделенную полосу перед Триумфальной аркой, вы совершили лобовое столкновение с припаркованным там автомобилем патруля ДПС.
– Ни хрена себе… – ошарашенно протянул Алексей. – Гаишники живы?
– Сотрудники ДПС по счастливой случайности не пострадали, так как находились не в автомобиле. Ни один автомобиль восстановлению не подлежит.
– Я вас понял… – ощущая накатившее оцепенение и чувство страха прошептал Алексей.
– Вы помните, что в кабине своего автомобиля вы были не один?
– Саша! Что с ним? – со стекленеющим взглядом от накативших слёз простонал Алексей.
– Ваш сын не был пристёгнут ремнями безопасности. В момент удара его выбросило через лобовое стекло на проезжую часть. Все последнее время за его жизнь боролись врачи Морозовской детской клинической больницы. Мальчик поступил туда с множественными переломами и травмами. Сейчас его жизни, слава богу, ничего не угрожает. По состоянию на сегодняшнее утро, во всяком случае. Однако врачи опасаются открытия внутреннего мозгового кровотечения. И ещё одно, – тон полицейского стал совершенно колючим. – Врачам не удалось сохранить левую ногу вашего сына. По факту данного ДТП и ввиду его последствий, повлекших тяжкий вред и увечья здоровью человека, было возбуждено уголовное дело. Мне необходимо вас допросить как виновника ДТП. Вы готовы давать показания?
Звон в ушах Алексея нарастал с каждым произнесенным капитаном словом. Лежащие под одеялом ладони впились ледяными пальцами в клеёнку матраса и сжали её в исступлении. В глазах поползли чёрные, тошные мухи и заискрились еле видимые вспышки фосфенов. И сознание покинуло Алексея, оставив без ответа вопрос полицейского. В повисшей тишине был слышен лишь скрип покачнувшейся гири, висевшей на пятке его ноги.
Часть вторая.
“Высшая и самая характерная черта нашего народа – это чувство справедливости и жажда её”.
Ф. Достоевский.
Пролог второй части.
Москва. Парк Горького.
Наши дни.
Коптит город небо, коптит своими лампами… Мы и коптим, люди городские, не можем пока по-другому. Не научилися. Машин очень много, целые реки, так, что аж из берегов. Однако выводят сейчас куда-то мануфактуры да фабрики. В ведомостях пишут, что взялись за «ржавый пояс», расчищат. Ржавый пояс… На пряжку свою гляжу, та тоже от времени зацвела. Оно же и правильно, наверное: всё, что устарело – уйти должно, не мешать. Раньше как-то даже и не замечал, что столько ненужного в городе. Каждый день ходил вдоль высоких бетонных заборов, всё удивлялся, что так крепко, на века построено. И вот не приходила же мысль, что это просто камни, а за ними нет ничего, идеи никакой за ними нету! А сейчас так очевидно, отчего-то, словно сняли пелену с глаз, как после операции. Если нет её, Идеи, то пиши-пропало: на стадионах тогда торгашей можно вместо спортсменов, детский садик под контору или офис какой. Без Идеи всё в камень превращается, в песок, в пустыню. Или в кладбище, ржавое кладбище посреди живого города. А сейчас словно просыпаемся. Они, молодые, нас и будят. Шустрые, деятельные, стоять не могут, всё в движении. А какое тут движение, с нашими заборами-то? Всё под снос, и правильно, ребятки, что под снос. Илюша мне говорит, что мы, дедушки да дяденьки, всю природу городскую в камень упрятали. Маленький, а соображат. Всё в город притащили – и нужное, и не нужное, везде либо забор, либо дорога, ни в мяч поиграть, ни на санках скатиться, ни по травке босиком. Нету места для детства. В парке-то нашем сейчас раздолье для Илюши, от бывшей шоколадной фабрики до, считай, воробьиной горы, во все стороны тротуары, велодорожки под клёнами да липами, площадки игровые, всё что угодно. Оно так и должно быть, чтобы ветер в волосах играл. Когда свободный ветер волосы трепет, то и мысли сразу свободные, творческие. К добру это всё. Оно как, вот за такое я на противотанковых ежах под Химками стоял. Ага, лежал… И другие полегли. Тогда не понимали мы этого, по молодости. А теперича, значение другое. Да и время другое. Только не хочу им мешать, обузой быть не хочу, забором этим, ржавым поясом, быть невыносимо. Пользу хочу несть. Хоть каку-то, хоть саму маленьку, крошечну, да пользу. А чем им помочь – не знаю, и они ничего не просят. Жалеют меня. Хорошо, что ещё хожу. Илюша меня выгуливат. Нельзя сдаваться, я так мыслю. Я же живой. А раз живу, значит, нужен ещё. Значит, могу быть полезен и должен быть. Только я, кроме как любить, больше и не способен ни на что, сил уже нет, как раньше. Разве и осталось силы, что только любить да ценить саму жизнь, да не свою, а их жизнь и их будущее. Сам удивляюсь, какая это силища во мне – Любовь. Вот что-что, а она с годами не ржавет.
Глава 1.
Отделение полиции.
Западный административный округ.
Москва. Начало мая.
Где-то три года назад.
Серый московский то ли дождь, то ли снег, под пронизывающий порывистый ветер, залеплял наглухо зарешёченные окна длинного четырёхэтажного здания отделения полиции. Его и без того мрачные стены из грязного силикатного кирпича, намокая с подветренной стороны, неопытному московиту, пожалуй, могли продемонстрировать разве что определенную безысходность. Безысходность в самом широком смысле этого понятия. Безысходность архитектора такого типа зданий для военных частей. Вынужденную безвариантность городских властей, не имеющих возможности снести это пост-архитектурное великолепие и построить на его месте что-то живое. И, самое главное, какую-то кармическую предопределённость жизненного положения людей, входящих в него в это не по-майски угрюмое раннее утро, особенно по работе. Даже свет, холодный мерцающий свет длинных ртутных газоразрядных ламп, пробивающийся на свободу из окон некоторых кабинетов, не только не разбавлял эту безрадостную картину, но и гармонично её подчеркивал, выстужая, если не сказать – вымораживая её изнутри.
Московские правоохранители, не ожидавшие такой погодной аномалии в самый разгар календарной весны, по-настоящему оперативно курили перед входом, ёжась от западающих за ворот ненормальных слюнявых осадков. Со стороны казалось, что какая-то часть их доблестной службы по необходимости состояла в том, чтобы поддерживать в надлежаще стабильном состоянии облако крепкого табачного дыма, прижатое ветром к входной двери невесёлого здания. Возможно, это ощущение складывалось потому, что как только один человек в погонах покидал пределы ареала накуренного микроклимата, так сразу же его место занимал другой человек в погонах или в штатском, выскакивая из отделения в это никотиновое облако с уже раскуренной сигаретой. Курили, по большому счету, молча, хмуро и неодобрительно вглядываясь в лица входящих в участок посетителей.
Посетители же, в свою очередь, сближаясь с входной дверью, старались не отрывать взгляда от снежно-землистого, заплёванного и приправленного окурками, весеннего дорожного месива. «Только не поднимать глаза», «только не смотреть по сторонам». Наверное, как-то так размышляли те, кого нужда заставила явиться в это хмурое утро в полицейский участок, проходя сквозь угарное чистилище под пронзительными тяжелыми взглядами продрогших оперативников. «И, самое главное, не дышать».
Небольшой временный кабинет следователя Романа Константиновича Смирнова располагался на втором этаже и выходил своим узким окошком чётко в стабильное облако служебной необходимости. Поэтому, с каждым порывом ветра, сквозь рассохшиеся от времени деревянные ставни в помещение проникала очередная щедрая порция едкой смеси для активного пассивного курения и дополнялась там крепким мужским ароматом, небрежно замаскированным достаточно прямолинейным одеколоном.
Из четырех длинных белых ламп, закреплённых под потолком на проволочных скрутках, работало только две, одна из которых всё время моргала и мешала сосредоточиться трещащими звуками перегоревшего стартера, безрезультатно пытавшегося запуститься. Окно было плотно задернуто куском грубой ткани, в которой к данному моменту было непосильно разобрать фрагмент плотной театральной кулисы, доставшейся этому кабинету после ремонта в актовом зале. Временность или, скорее, необжитость этого помещения была заметна практически в любой детали, начиная от забрызганных пятнами старой краски стульев до мусорной корзины, роль которой выполнял висевший на трубе отопления целлофановый пакет. От прошлых хозяев этого помещения, двух преклонного возраста дам, администрировавших отсюда местный оперативный архив, Роману Константиновичу досталось две вещи, которые никак не хотели вписаться в мужской новый порядок. Во-первых, цветочный горшок с геранью, которую по просьбе предыдущих хозяек, надо было либо поливать, либо выкинуть. А во-вторых, зеркало, намертво закрепленное на жидкие гвозди с обратной стороны кабинетной двери. Присутствие дамского зеркала с розовым ажурным орнаментом по краям, равно как и цветочного горшка на подоконнике, требующего регулярного полива, создавало в голове следователя по уголовным делам настолько сложные корреляции, что вступало в определенный диссонанс с его мужской строевой самооценкой, заметно снижая жизненный тонус и, в определённом смысле, мускулинум. Особенно это было заметно при редком посещении кабинета начальством.
Да, порядка в кабинете, на первый взгляд, никакого не наблюдалось. Не было крючка, вешалки или элементарного гвоздя, чтобы повесить верхнюю одежду. На пошедшем волной паркете стояла платформа для электрического чайника, но сам чайник отсутствовал. Там же находился массивный старый сейф без ключей и какого-либо понимания их судьбы. Этот металлический саркофаг навсегда сохранил в себе тайны следствия прошлых эпох и упокоился в этом кабинете, скорее всего, уже до сноса здания. Телефонный аппарат, подключённый «лапшой» к сети, располагался в дальнем углу подоконника, надёжно заслоняемый горшочным растением. Аппарат работал исправно, однако, набрав за время доблестной службы в трубку щедрый запас неприятных запахов, напоминавших аромат средней ротовой оперативной полости по отделению, никак не располагал к общению. Даже в служебных целях. Да и старенький тормозной компьютер, подключенный к ведомственной сети, не мог предоставить возможности интеллектуального побега из этого тёплого, тихого, чуть освещённого, но какого-то неживого помещения.
Однако, на рабочем столе Романа Константиновича, привлекала внимание одна деталь, которая, во-первых, заметно выделялась на фоне предельно аскетичных элементов служебного интерьера, а во-вторых, только она одна помогала следователю настроиться на очередной рабочий день. Только она была способна погасить клокочущее внутреннее возмущение оперативника окружающими обречёнными условиями. Она единственная не позволяла этому внутреннему растущему протесту не вырываться с шумом и грохотом наружу и смириться с окружающей действительностью, как с очередным жизненным испытанием, данным за дело и ради чего-то хорошего. В жестяной рамочке, сделанной им самим из большого пустого тюбика из под клея и украшенной латунными жестяными завитками по всему периметру, стояла фотография маленькой очаровательной девочки, широко улыбающейся Роману Константиновичу большими голубыми глазами. Его родными любимыми глазами.
Вот уже которое утро суровый тридцатишестилетний дядька брал фоторамку и подолгу рассматривал милое личико своей маленькой дочки, словно разговаривая с ней через пространство. В такие моменты со стороны было видно, как преображался его взгляд, теплея и успокаиваясь. Несколько минут, и от внутреннего кипения у мужчины не оставалось и следа. Словно какая-то защитная оболочка обволакивала его со всех сторон, пробираясь своими согревающими волнами сквозь мужскую волевую корочку до самых ранимых глубин души. И там становилось тепло. По-настоящему тепло, независимо от погодных аномалий. Становилось понятно, ради чего оно всё. И, откуда ни возьмись, появлялись силы. Не просто мимолётный эмоциональный прилив, зажмурься – и пройдёт. Нет. А словно мощный неиссякаемый поток, который подхватывал, подпитывал, придавал скорости и значения движению, оставляя за собой, как панораму за окном мчащегося поезда, такие малозначительные и проходящие жизненные обстоятельства, как маленький душный кабинет типа «клетка», смердящую трубку служебного телефона, сейф-гроб и разбитую вдребезги текущую личную жизнь.