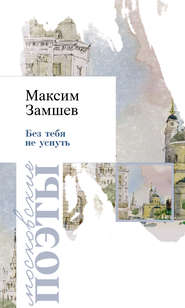По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Концертмейстер
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вскоре Шура снова перебрался в столицу. Переписка не возобновилась.
И Шуре неоткуда было узнать, что Люда летом 1944 года попросилась на фронт, и до самой Победы прослужила медсестрой в медсанбате одной из частей Первого Белорусского.
Когда в 1946-м её перевели на работу в Москву, первым делом пришло в голову, здесь ли Саша? Вдруг он снова близко? Однако она не стремилась во что бы то ни стало найти его. Вероятно, надеялась, что он сам объявится. Или судьба как-то приведёт её к нему.
Однажды она отправилась в магазин «Консервы» в надежде отоварить карточки. Друг детства стоял на углу Медвежьего переулка и улицы Герцена, курил, улыбался и поглядывал на небо, словно ждал там каких-то немедленных изменений.
Люда увела его тогда к себе на Борисоглебский, напоила чаем, он рассказал ей всё о себе, она ответила тем же. Услышав про тяжкую болезнь Лапшина и про то, что ему прописано только лечение морфием, она не испытала колебаний: её долг – помочь другу. С тех пор так повелось: когда ему становилось совсем невмоготу, он приходил к ней. И она делала ему укол морфия, который крала из больничных запасов. Почему-то её сперва совершенно не страшило, что кража вскроется и её накажут. Ведь она уносит из больницы ампулы с морфием для благого дела. За что её карать? Но эта уверенность постепенно таяла. Морфий для Лапшина служил лишь временным облегчением, а недостача препарата в клинике всё увеличивалась.
Люда, впустив Лапшина, привычно заторопилась. Помогла ему раздеться, уложила на кушетку и помчалась на кухню, чтобы вскипятить шприцы. Шура расслышал, как Люда и соседка обсуждали недавнюю отмену продовольственных карточек.
Боль замутнила сознание. Всё вокруг теряло чёткость.
Услышав шаги Людочки, он приободрился. Счастье близко. Бывшая одноклассница поставила укол в вену, – так эффект быстрее, чем внутримышечно.
Гудкова присела на край кушетки. Заглянула в его глаза, постепенно проясняющиеся.
– Саша! Надо что-то предпринимать. Ещё чуть-чуть и ты станешь морфинистом, – сказала Люда с деловитой тревогой хорошей ученицы, которая всегда говорит то, что от неё ждут.
– Ну что ты меня терзаешь? – простонал Лапшин. – Я только вчера был в поликлинике. Врач подтвердил, что не уверен в успехе операции. Я не дам себя зарезать. Лучше уж так!
– Ты меня, конечно, извини. Но тебе всего двадцать семь лет. Неужели твой врач не понимает, что морфий убьёт тебя раньше язвы? – Она сейчас наставляла Лапшина не как друга, а как пациента. – Я, поверь, знаю, о чём говорю. Похоже, этот твой врач не в курсе, какова твоя реальная доза. Так?
Шуринька отвернулся к стенке и затих.
Некоторое время слышно было только, как на общей кухне чьи-то руки переставляли посуду, включали и выключали кран.
– Чайник горячий. Чай будешь? – Люда не могла вразумлять его слишком долго. Жалость и желание опекать брали верх над негодованием от того, что он игнорирует её предостережения.
– Буду.
Морфий действовал.
Лапшин любил пить чай вприкуску. Сначала класть в рот беленький сладко тающий кусочек, а потом уже запивать его. Не потому что жалел сахар. Просто ему нравилось, как меняется вкус от приторного к несладкому. Своеобразное вкусовое уменьшение звука – диминуэндо.
Всякий вечер, когда Шуринька оставался у Люды, между ними создавалось нечто исключительное, какая-то тёплая искренность, из которой можно было при обоюдном желании вытянуть близость большую, чем дружба. Но этого не случалось. Как не случалось между ними никогда прежде. Сколько же можно? У Людочки от этого копилась досада и вот-вот грозила выплеснуться через край откровенным разговором.
«Может, сегодня что-то произойдёт?», – спрашивала саму себя девушка, вглядываясь в черты лица Шуриньки, лёгкие, как будто существующие не всерьёз, но при этом неизменно страдальческие.
Два раза позвонили во входную дверь. Люда нахмурилась. Слишком уж по-хозяйски кто-то жал на кнопку. Стремительной тенью пронеслось: кража морфия вскрылась. Это за ней.
Приходящий постепенно в себя Шуринька с неуместным задором бросил:
– Открой. Это, похоже, к тебе…
Вскоре в комнату, распространяя молодые морозные запахи, ворвались четыре девушки, сразу создав тесноту и суету. Лапшин привстал и, неуклюже кивая, поздоровался.
«Кто это такие? Наверное, поражены, что в комнате у Люды на диване обнаружился незнакомый им мужчина!»
Самую высокую звали Вера. В ответ на приветствие Лапшина она лукаво прищурилась, словно признала в нём старого знакомого, который почему это знакомство отрицает. Её русые волосы были зачёсаны на прямой пробор, мягкие черты лица завораживали, чуть припухлые щёки просились, чтобы их потрогали, подбородок выдавался вперёд, но не столь сильно, чтобы нарушить пропорции лица.
Под стать ей выглядела та, что представилась Генриеттой, хоть и была чуть ниже ростом. Маленький, чуть вздёрнутый носик не портил её эффектную внешность: большие чуть удлинённые голубые глаза, светлые, слегка вьющиеся лёгкие волосы, нежный, чуть узковатый рот, ровный румянец на белейшей коже. Всей своей повадкой она предлагала мужчинам оценить её. И, конечно же, влюбиться. На лапшинское «Здравствуйте!» она деланно поклонилась.
Вид третьей девушки трогал: субтильная, в очках, меньше всех по росту, да ещё сутулящаяся, но лицо волевое, ясное, спокойное. Тёмные волосы заплетены в два забавных хвостика. Она сказала Лапшину: «Приветствую вас», – сразу обозначая некоторую дистанцию.
«Стесняется?» – предположил Шуринька.
Четвёртую Лапшин узнал: это была Света Норштейн. Дочка Льва Семёновича, его старшего товарища, композитора. Она, кажется, только в этом году окончила школу и поступила в педагогический институт. Но выглядела взрослее своих лет. В лице жила библейская строгость и правильность черт, в глазах – спокойная умудрённость, чувство постоянной правоты и жажда эту правоту доказывать, но только тем, кто этого достоин. Лапшину она кивнула, улыбаясь, как старому знакомому, но спрашивать, как он здесь, в этой комнате, возник, не решилась.
Вера, расцеловав Людмилу, защебетала:
– Ты прости, мы были тут неподалёку и вот решили к тебе зайти, наудачу. Вдруг ты не на дежурстве?
Лапшин не мог себе представить, что у Люды в Москве есть подруги, да ещё и целых четыре.
1953
С Олегом Храповицким, будущим отцом Арсения и Дмитрия, Света Норштейн познакомилась в день, когда хоронили Сталина.
Москва уже четыре дня была охвачена скорбью. Но Света всерьёз горевать не собиралась. Не близкий же родственник скончался! Папа, как она сразу поняла, хоть и не показывал виду, переживал не из-за ухода в мир иной вождя народов, а из-за смерти Сергея Прокофьева, своего старшего музыкального собрата, чья прихотливая судьба поставила точку в его великой жизни в один день со Сталиным. О кончине Сергея Сергеевича ему сообщил зашедший к Норштейнам на чай композитор Николай Пейко. Лев Семёнович помрачнел. Долго тёр глаза. Потом они что-то обсуждали вполголоса. Звучала фамилия Вайнберг. Света слышала от родителей, что известный советский музыкант Моисей Самуилович Вайнберг арестован чуть меньше месяца назад, и его друзья, среди которых Шостакович, Пейко, Норштейн и многие другие, делают всё для его освобождения. В тот же вечер у Норштейнов гостил композитор Лапшин. Очень приятный и очень несчастный молодой человек, пять лет назад изгнанный из консерватории как безродный космополит. Последнее время Света реже его видела. Только когда он заходил к отцу. А раньше, несколько лет назад, они часто оказывались в одной весёлой компании, собиравшейся у Людочки Гудковой, жившей в доме напротив. Правда, сама Гудкова нравилась ей меньше остальных, а иногда и вовсе раздражала. Но она терпела её ради того, чтобы оставаться частью этих сборищ, где как будто не действовали законы внешнего мира.
Отец и Лапшин в тот мартовский вечер выпили по рюмке в память Прокофьёва, говорили при этом тихо, почти шёпотом, потом, словно по команде, очень громко помянули Сталина.
Сегодня отец и мать уговаривали её никуда не выходить из дома. Но она всё же вытребовала у них право немного прогуляться. Отец в итоге махнул рукой и буркнул:
– Иди! Только в толпу не лезь. Не проявляй самостоятельности, где не надо. Без тебя разберутся.
– Я и не собиралась, – обрадовалась Света. – Зачем мне в толпу?
Сероватый, однотонно унылый, ничем не примечательный, до раздражения заурядный денёк начала марта ещё не обнаруживал признаков весны, кое-где по-прежнему лежал снег, да и градусники показывали минусовую температуру, но в воздухе уже поселилось что-то лёгкое, необъяснимое, что скоро переломит погоду и заставит природу окончательно очнуться, зашелестеть флейтами тёплых ветров, погрузиться в негромкую настойчивость птичьих распевов и терпковатых, всякий раз новых ароматов.
Норштейны в те годы проживали в коммуналке в Борисоглебском переулке, в унылом на вид доме из подкрашенного кирпича, притаившемся чуть в глубине от проезжей части.
Когда в 1946 году на улице Воровского завершили строительство здания музыкального института, Лев Семёнович с разрешения Елены Фабиановны Гнесиной, руководившей новым вузом, по вечерам занимался в свободных классах. Это спасало. Здесь никто не начнёт барабанить в дверь или стену и орать: «Семёныч, прекрати!»
В начале пятидесятых морок войны начал рассеиваться. Тьма смерти постепенно отступала перед ровным светом житейских забот.
Лучше пошли дела и у Льва Семёновича. Его исполняли всё больше, о нём писали музыковеды, руководство Союза композиторов демонстрировало благосклонность. После премьеры в Большом зале консерватории его Пятой симфонии публика почти десять минут хлопала стоя, вызывая на сцену автора.
У семьи наметился некоторый достаток. Вот только проблема с жильём не решалась. Норштейны так и ютились в коммуналке на Борисоглебском, втроём в одной комнате. Льву Семёновичу давно уже пора было переехать. Но как-то не складывалось.
Елена Фабиановна Гнесина несколько раз уговаривала его преподавать в институте композицию. Домашние умоляли согласиться. Ведь работа под крылом Гнесиной, к которой, как известно, хорошо относились в Политбюро, это верный путь в новую отдельную квартиру. Пока там, в Союзе композитов, расщедрятся – жизнь пройдёт! А к Гнесиной, говорят, сам Сталин прислушивался. Но Лев Семёнович отказывался, мотивируя это тем, что не чувствует в себе педагогических талантов, и только из-за жилья не будет уродоваться сам и уродовать других, занимаясь тем, к чему душа не лежит.
Между тем на улице Огарёва вроде бы планировалось построить кооперативный композиторский дом. Как будто и Норштейнам светило оказаться среди участников кооператива.
Лев Семёнович не очень в это верил. В последний момент всегда что-то может поменяться. Да и строительство продолжится несколько лет. Жизнь в Советской России научила его не загадывать слишком далёко. Его жена, тем не менее, копила деньги на сберкнижке. По её расчётам, к тому моменту, когда начнут распределять квартиры, сумма приблизится к нужной.
Света, несмотря на неудобства и тесноту, любила бывать дома. Но в то утро 9 марта 1953 года ей стало в их, по меткому определению матери, Марии Владимировны, «вороньей слободке», невмоготу. Из каждой комнаты из радиоприёмников звучала трансляция с траурной церемонии, и периодически кто-то всхлипывал или скулил.