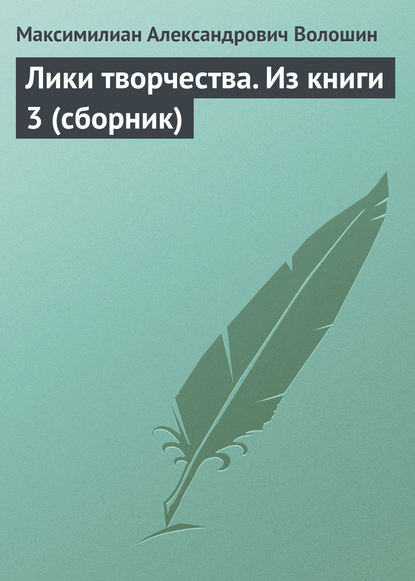По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лики творчества. Из книги 3 (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Достоевский и русская трагедия
Русская трагедия возникнет из Достоевского
Москва занята вопросом о кризисе театра.
О «кризисе театра» читаются лекции, устраиваются диспуты, пишутся статьи, звенят имена Гордона Крэга, Рейнгардта, Гуго Вольфа… Но никому не приходит в голову, что говорить о кризисе европейского театра вообще – невозможно, так как театр искусство исключительно национальное и всегда точно соответствующее возрасту души каждого народа.
Возможно говорить о кризисе театра немецкого, театра английского, театра русского, но о кризисе театра вообще говорить нельзя.
Существует ли кризис русского театра?
В понятие театра входят и сцена, и драматическая литература. История русской сцены за XIX век представляет блестящую страницу театрального творчества. Острота же современных сценических исканий, опытов и попыток указывает только на жизненность русской сцены, на хорошую, честную школу, на готовность принять и претворить в себе то драматическое содержание, которое будет создано драматургами из русской действительности.
Что касается драматической литературы – дело обстоит совершенно иначе. Не только русской трагедии, но и русской драмы еще не существует.
Существовала русская бытовая комедия: Грибоедов, Гоголь, Островский. Она творилась в рамках западных драматических формул. С известных точек зрения – она блестяща. Она пыталась воспринять в себя и драматическое содержание. Но русская драматическая пьеса обнаруживала всегда парадоксальное стремление стать эпосом. В летнем затишье тургеневских пьес время течет медленно, и чувства сменяются неторопливо. Драмы помещичьей жизни развиваются вне слова, вне жеста, охватывая пространство всей жизни.
Пройдя сквозь опрозраченный и успокоенный театр Тургенева, русская пьеса закончилась драматическим пейзажем в образе театра Чехова, и пути русской драматической литературы на этом оборвались.
Что русская драматическая литература прекратилась вместе с Чеховым, в этом нет ничего удивительного.
Славянская душа трагична в своей сущности. Сравните ее с душою других европейских рас: она отличается от них и глубиною своих эмоций, и напряженностью совести, и остротой трагических противоречий. Она катастрофична. Она живет детской и гениальной интуитивностью.
Во всем, что касается методического напряжения воли и последовательного логического мышления, – русские ниже европейцев. Но их мир душевных переживаний бесконечно глубже и полнее. И это свойство не только национальной молодости, но и самого характера славянской души.
Бытовая комедия могла у нас процветать только временно; только потому, что эта сторона жизни легче укладывалась в готовые формулы, целиком взятые из западного театра. Для трагедии же, выявляющей самую глубинную и самую индивидуальную сущность национальной души, необходимо создание своих собственных национальных форм.
Комедия, как вообще стихия смеха, отвечает по своему существу охранительным инстинктам общественности. Она предостерегает об опасных симптомах разложения и болезни бытовых основ.
Но какая же бытовая комедия могла развиться у народа, который только и делает, что своевольно ломает все бытовые рамки и рвет преемственные связи между поколениями?
Выработанных западным театром форм было достаточно для русской комедии. Формы трагедии же могут возникнуть только из органического развития театра.
Трагедия, как высшая форма искусства, не строит, а венчает. Она возникает на почве эпически разработанного мифа.
Зритель, который смотрит трагедию, должен заранее знать ее героев по именам и видеть в них основные характеры своей расы. Ему должна быть знакома их внутренняя борьба, их трагическая гибель и обстоятельства судьбы.
Трагическое действо заключается в постепенном раскрывании тех путей, по которым проходит душа героя, направляясь к заранее определенному концу.
Поэтому трагедия может возникнуть только на почве эпически обработанного мифа. Без Гомера немыслимо возникновение Эсхила. Судьба Атридов была определена во всех трагических положениях и деталях до тех пор, когда она была претворена в «Орестейе».
В то время как русский театр развивался в плоскости быта, пейзажа и идиллии, русский роман в XIX веке стал сосредоточием всех трагических переживаний славянской души.
Войдите в мир Достоевского: вся ночная душа России вопит через его уста множеством голосов. Это не художник, – это бесноватый, в котором поселились все бесы русской жизни. Ничего не видно: ни лиц, ни фигур, ни обстановки, ни пейзажа – одни голоса, спорящие, торопливые, несхожие, резко индивидуальные, каждый со своим тембром, каждый выявляющий сущность своей души до конца.
Во всей европейской литературе нет ни одного писателя, который бы давал более трагически-насыщенную атмосферу. Грозовая сгущенность, сосредоточенная сила, физически ощущаемый полет времени, нервность диалога, в котором каждая новая реплика изменяет соотношения между всеми действующими лицами, наконец, то нарастание событий вокруг одного дня, одного часа, которое составляет характерную особенность всех романов Достоевского, – все говорит о том, что в Достоевском русская трагедия уже включена целиком, и нужен только удар творческой молнии, чтобы она возникла для театра.
Рядом с Достоевским другим обетованием трагедии стоит фигура Льва Толстого. Не столько, быть может, своими произведениями, сколько своею собственной судьбой, своею коллизией между искусством и моральным подвигом, своим отношением к тайне зла Толстой является символическим прообразом грядущей русской трагедии.
Ни Достоевский, ни Толстой не творили театра, потому что они создавали тот трагический миф, из которого он должен возникнуть.
Ясно чувствуется, что Карамазовы – наши Атриды, что трагедия отцеубийства в душе Ивана Карамазова созвучна с Эдипом; что в «Бесах» есть трагическая насыщенность «Семи против Фив»; что «Преступление и наказание» будит спящих «Эвменид»; что «Война и мир» так же плодоносна, как Троянский цикл, русская «Федра» имеет свой прообраз в «Анне Карениной»…
Современный роман вообще по отношению к театру играет роль эпоса. Примером может служить Франция, где развитие театра идет наиболее органично и тесно слито и с интимным бытом, и с моральными потребностями страны. Там каждый новый человеческий тип, впервые выдвигаемый жизнью, должен непременно быть усвоен в романе, прежде чем выйти на подмостки. Это касается не только переделок романов в пьесы, но главным образом использования новых литературных типов в театре.
Но французский роман, как и театр, дробится в мелочах быта, в тонких извивах характеров, в создании масок жизни, между тем как русское творчество все направлено к выявлению основных элементов национального духа, основных противоречий народной души, основных коллизий всего строя исторической жизни. Это стихия трагедии, а не бытовой комедии.
Русский актер за минувшее столетие прошел великолепную школу. Он ложился на прокрустовы ложа всех иноземных трагедий от Шекспира до Ибсена. Он учился претворять свой порыв духа сквозь призму и Гамлета, и Бранда, и Карено, повторяя этим те пути, которыми шло все русское искусство, себя шлифовавшее на гранильных станках иных культур, но всегда остававшееся строго оригинальным. Он, в бытовой комедии, фиксировал маски и лики русской жизни, характерные, но статические. Теперь он готов дать им динамический характер трагедии.
Недавние инсценировки Достоевского («Братья Карамазовы» в Художественном театре, «Идиот» у Незлобина) были интересны не своею художественной цельностью, – ее у них не было, – но тем изумительным преображением русского актера, которое можно было наблюдать во время этих спектаклей. Большие артисты, как Качалов (Иван), Леонидов (Митя), обнаружили совершенно новые стороны своей души, а другие, раньше совсем незаметные или второстепенные, как Жихарева в роли Настасьи Филипповны или Воронов в роли Смердякова, вдруг оказались первостепенными мастерами сцены. Одно прикосновение к первоисточникам будущей русской трагедии чудесно преображало их.
Но какими путями может возникнуть русская трагедия из Достоевского? Не инсценировками… Они важны для актеров. Драматурга этот путь никуда не приводит. Но каждый драматург имеет право использовать роман как эпос – беря оттуда основные коллизии и первоосновы характеров, претворяя их в своем миропонимании. Это не только право – это историческая необходимость по отношению к Достоевскому.
Речи о «кризисе» театра – глубокая несправедливость по отношению к русскому актеру, который полон сил, возможностей и жажды дать выход той духовной напряженности, которая накопилась в нем. Что же касается кризиса драматической литературы, то его тоже нет, потому что наша русская трагедия еще не возникала.
Театр томительно ждет ее возникновения. Мы не знаем, сколько еще времени продлится это ожидание. Но с уверенностью можем утверждать, что возникнет она в тот миг, когда художественное сознание исторически осознает, оправдает и обнимет все те национальные противоречия, которые современная литература отражает пока только в формах тупой безвыходности.
«Братья Карамазовы» в постановке московского художественного театра
Несомненно, что «Братья Карамазовы» есть трагедия, облеченная в форму романа. Из всех литературных форм роман наиболее свободно сочетает в себе различные виды изобразительности: и каменные скрижали повествования, и живую плоть трагедии. «Братья Карамазовы» изваяны именно из дикого камня и трепетной плоти – «de la chair vivante et de la pierre brute». Можно ли отделить живое тело от камня, в который оно вросло? Для этого нужен чудотворец, равный по своей силе творцу: драматург, который бы не переделал, но пересоздал «Братьев Карамазовых» и досказал недосказанное. Такого драматурга нет в России, да и вообще у нас теперь нет ни одного драматурга. Но возможен путь иной: принять вместе с плотью и камень, т. е. перенести на сцену повествовательный элемент вместе с драматическим и ждать, пока постепенным театральным процессом не будут размыты все каменные породы и на сцене останется одно действие. Художественный театр мудро избрал этот путь и ввел небывалое на сцене новшество: чтеца, излагающего повествовательные части романа. И если бы Художественный театр захотел быть последовательным на этом пути, то ему следовало бы не останавливаться на той форме, которую приняла инсценировка, но непрестанно ее изменять и совершенствовать, сообразуясь с драматическим трепетом, пробегающим в зрительном зале, – другими словами, попытаться творить непосредственно в самом понимании своих зрителей.
Это приблизительно то же, что делал Вилье де Лиль-Адан, когда он, прежде чем записать, десятки раз рассказывал и мимировал свои рассказы, внимательно следя за выражением лиц своих слушателей и оставляя лишь то, что потрясало и захватывало. Только таким образом может быть выработан окончательный драматический сценарий «Братьев Карамазовых».
Пресса встретила попытку Художественного театра недоброжелательно. Большинство было возмущено самым фактом переделки романа для сцены.
Осуждение это имеет себе оправдание в том, что за последние годы мы имели дело с неудачными переделками, но из этого не следует, чтобы все претворения романа в драму были плохи и чтобы самый принцип их был достоен осуждения. Немало авторов сами или под своим руководством приспособляли свои вещи для театра, а если мы обратимся к истории развития русской сцены и русского романа, то увидим в этом нечто неизбежное.
Русская драма в XIX веке отличалась определенным стремлением превратиться в повествование. Несмотря на. такие глубоко трагические по своей стихии произведения, как «Горькая судьбина» и «Власть тьмы», русский театр дошел через Тургенева до эпических форм Чехова и на нем прекратился. Драматургия русская сперва перестала быть драматической, а затем иссякла. Между тем русский роман принял в свои рамки в XIX веке все, что было трагического в русской душе. В романах Достоевского и Толстого лежат неисчерпаемые рудники трагического. Почему так случилось – это вопрос сложный. Отчасти потому, что формы драмы, принесенные с Запада, не могли вместить в себя тех стихийных порывов трагизма русской души, для которых выход был необходим, отчасти общественные условия ставили театральные воплощения в более узкие рамки, чем роман. Во всяком случае, теперь перед русским театром стоит неизбежность: он сам за эти годы переродился, он растет, ему нужна пища – репертуар, а драматическая литература отсутствует. Что же ему остается делать, как не обратиться к роману, где сосредоточены все сокровища трагического, сознанные русской душой?
В среде писателей, интересующихся театром, главным образом в круге Вячеслава Иванова, много раз выражалось за последние годы предчувствие скорого пришествия русской трагедии. На этом предчувствии был основан и доклад Сергея Городецкого, сделанный прошлой зимой на собрании у барона Дризена. Эти ожидания казались лишенными основания. Было ясно, что для возникновения трагедии нужно существование мифа и его эпической обработки. В русском классическом романе XIX века затаен весь современный русский миф и эпос, и русская трагедия сможет возникнуть только на этой почве. Для трагедии необходимы заранее данные характеры, основные коллизии и трагический исход, потому что внимание должно быть сосредоточено не на событиях и лицах, предполагаемых всенародно известными, а на трагической борьбе, которая разивши путями приводит к одному и тому же концу – трагической гибели. Важно, чтобы герои трагедии были лично и интимно близки зрителю. Все эти условия трагедия теперь может найти только в романе. Как Эсхил и Софокл творили трагедию из легенд об Атридах и об Эдипе, так русская трагедия может найти свой дом Атридов в «Братьях Карамазовых», Троянскую войну в «Войне и мире», Орестейю в «Преступлении и наказании», Федру – в «Анне Карениной».
Но вернемся к элементам трагедии, заключенным в «Братьях Карамазовых». Здесь намечена драматическая трилогия, определяемая судьбою Дмитрия, Ивана и Алеши. Все три части ее развиваются одновременно, переплетаясь между собою. Причем трагедия Дмитрия и трагедия Ивана завершаются в самом романе, а из трагедии Алеши дан только пролог.
Схема этой трагической трилогии такова: во главе угла стоит сам отец лжи – Феодор Павлович Карамазов. Он играет роль древней Ананке, потому что трагизм жизни всех трех братьев в том, что они Карамазовы, а коллизия в том, что то зло, которое они должны преодолеть и истребить в самих себе, является их отцом. На всех путях, уводящих их от их карамазовской плоти к духу, стоит отцеубийство.
Плоть Феодора Павловича, сочетавшись с Аделаидой Ивановной Миусовой (дамой горячей, смелой, смуглой и нетерпеливой, которая, по преданию, била его), рождает Дмитрия. Дмитрий наследует дух своей матери и благородство порыва, но вместе с ним и сладострастное карамазовское насекомое, которое он во что бы то ни стало должен истребить в себе. Истребить его в себе или убить отца – для него это почти одно и то же. Он подымает руку на отца и хотя не убивает его, но несет за свое страстное желание убить трагическую ответственность, как за преступление совершенное. В этом безвинном принятии муки – его трагическая и просветляющая дух гибель.
В браке с кроткой Софьей Ивановной Феодор Павлович родит умного Ивана и ангела – Алешу. Иван – ум страстный и холодный, скептический и жаждущий веры, знает в себе карамазовскую плоть, но не страдает от ее страстных приступов, как Дмитрий. Карамазовщиной у него отравлен ум, а не тело. Он холодной логикой волит смерть отца (пусть один гад убьет другую гадину). Но его мысль находит себе исполнителя в ином исчадии Феодора Павловича – в Смердякове. Познав себя отцеубийцей, он хочет оправдаться формальным признанием, но его жертва не принята и вся тяжесть ума его падает как камень ему же на голову и наступает безумие – горячка. Он так же, как и Дмитрий, гибнет за то, что хотел истребить в себе отчую злую плоть, а не спасти, не просветить ее, не преобразить ее.
Когда Софья Ивановна становится кликушей, она рождает от Феодора Павловича второго сына – Алешу. Первое, что он запоминает в жизни, это исступленное, и прекрасное лицо матери, протягивающей его обеими руками к образу Богоматери. Алеше суждено освятить и спасти Карамазова скую плоть, преодолеть отцеубийство. В романе дан только пролог трагедии Алеши, а самая жизнь осталась недосказанной Достоевским. Но не забудем, что действие существующего романа происходит в 1866 году, а судьба Алеши должна была разрешиться в 1879–1880 годах. В этом прологе Алеша отличается от Ивана и Дмитрия тем, что еще не начал борьбы с карамазовскою плотью, но он сознает, что стоит уже на цервой ступеньке, а кто ступил на первую, тот пройдет и все тридцать. Старец Зосима, умирая, посылает его в мир воплотиться. Мы можем только догадываться, что трагедия Алеши, будучи так точно отнесена к 1880 году, должна была бы развиваться в сгущенной и безумной общественной атмосфере, подобной атмосфере «Бесов», и что. там, быть может, через душу Алеши должны были найти разрешение вопросы, не разрешенные в «Бесах», и что история его должна была закончиться не катастрофою, а мирным торжеством жизни.
Наконец, четвертый сын Феодора Павловича, рожденный от кощунственного насилия над юродивой и идиоткой Елизаветой Смердящей, лакей Смердяков наследует карамазовскую плоть и хамский ум Феодора Павловича, не просветленный никакой женственной стихией. Он фактически убивает Феодора Павловича и гибнет сам без трагедии и без борьбы, так, как будто для него отцеубийство было и самоубийством, как будто в нем и не было ничего вне естества Феодора Павловича, что могло бы существовать.
В развитии трагического действия братья группируются так, что Алеша как бы дополняет Дмитрия, как преображение всех благородных порывов его души, а Смердяков сопутствует Ивану, как лакейская пародия всех непросветленных логических тупиков его ума.
Это, конечно, самая грубая схема трагических направлений, заключенных в романе. Рассмотрим же, что Художественный театр мог сделать с этими элементами, не забывая при этом, что он был и составителем сценария и воплотителем.
Трагедия Алеши в романе еще и не начинается. Эта трагедия не только возможна, но даже неизбежна для воплощения русского духа, она еще будет создана каким-то гением будущего. Из романа же она только проецируется. Потому, может быть, даже не следует жалеть о том, что Художественный театр был лишен возможности осуществить свой первоначальный план: начать представление свиданием братьев у Зосимы и сценами в монастыре. Все самое важное в жизни Алеши: и смерть старца, и сон о браке в Кане Галилейской – неосуществимо не столько для сцены, сколько для нынешних театральных зрителей. Взятый же вне монастыря, вне земного посланничества, возложенного на него Зосимой, Алеша становится бледен и безлик. Он не живет, он только ухо, которое слушает исповеди Дмитрия, Ивана, Катерины Ивановны, кап. Снегирева, Грушеньки, Лизы, и сердце, которое учится принимать и прощать. Поэтому в пьесе его роль самая неблагодарная, он служит лишь наперсником и передатчиком, а также тем звеном, которым механически связуются самостоятельно развивающиеся драмы Ивана и Дмитрия.