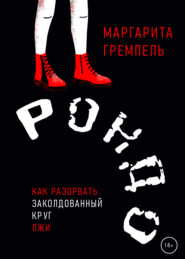По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зинаида. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда немцы бомбили города, нередко появлялись перед этим диверсанты или выползали из нор предатели – подсвечивали фонариками важные объекты, туда немцы и бросали авиабомбы. Таких негодяев по законам военного времени расстреливали на месте.
Иван с двумя такими же, как и он, курсантами заступил на ночное дежурство, чтобы пресекать действия предателей и диверсантов – задача нелёгкая: тебя бомбят, а в бомбоубежище не спрячешься, потому что как их тогда выследишь? Они заметили столб света, устремившийся в небо при приближении гула немецких бомбардировщиков; этот столб светил над тракторным заводом, который собирался выпускать танки. В плен решили взять диверсанта сами.
Что тогда двигало Иваном, он сформулировать не смог, даже когда писал объяснительную записку на имя начальника школы, где он учился на артиллериста. Было ли это желанием выделиться перед другими, прихвастнуть – может быть, он ловил себя на этой постыдной мысли, но всё же попытался успокоить себя тем, что он мог бы получить «Звезду Героя».
Вышел он на предателя раньше всех и скомандовал:
– Руки вверх!
А им оказался здоровый бугай, говорящий хорошо по-русски, но с украинским акцентом. Он взял за штык винтовку Ивана и легко подтянул его к себе.
Чем бы это закончилось, догадаться легко, потому что Иван настолько опешил, что даже забыл про винтовку и про то, что она заряжена и взведена – патрон в патроннике, – можно было стрелять и если не убить врага, то хотя бы наделать много шума, но вместо этого он заорал что было мочи:
– Бра-а-тцы-ы! – и обмочился прямо в штаны, новые армейские, недавно полученные со склада.
Двое курсантов, что были с ним, подоспели вовремя, еле-еле они втроём связали предателя и отвели в комендатуру. Наутро узнали, что его расстреляли прямо там, во дворе комендатуры. Курсант, что по возрасту был самым старшим среди них, сибиряк, пошутил над Иваном:
– Вот так, Ваня, становятся героями! – и показал на его мокрые штаны.
Иван отвёл глаза и покраснел. Воспоминания об этом случае сделали Ивана другим. Он вдохнул страшный холод смертоносного инея, горячий жар разливающегося под ложечкой сильнодействующего яда, который приводит к быстрой смерти. Он пытался потом вспомнить того страшного верзилу, эту тушу жирную и необъятную, из-за чего он не успел запомнить даже его лица: глаз, носа, рта, – потому что всё это вместе сливалось, как в огромную, бездонную и сырую могилу.
…Под Сталинградом, а были с Иваном и те, кто воевал в Гражданскую и даже в Первую мировую, они называли этот город чаще по-старому – Царицыном, война для Ивана здесь сложилась по-особому. Его ещё жалели из-за возраста, откуда-то все узнали, что ему мало лет, что он из детского дома – смуглый, красивый цыганёнок. Речь у него была простая, с особым тембром, похожая на речь диктора по радио, все это заметили, в детдоме не успели, так как голос у него тогда ломался – он взрослел и становился мужчиной. Должность у него была для блезиру – второй заместитель командира батареи; командование понимало, куда его под пули ставить, был как посыльный. Трусом он, конечно, себя не считал, хотел воевать как все и со всеми; как утверждал он сам, на миру и смерть красна. Но его пока во время боя посылали куда-нибудь с «важным» донесением. Пушки часто перетаскивали на себе, он, по молодости, снял с убитых немецких офицеров хорошие кожаные ремни, чтобы легче привязать и тащить пушку, так не резало плечи. И выглядел в этом убранстве как улан без коня, драгун на пушке или разноцветный гусар. За километры было видно ряженого чудака. Тут один дед, артиллерист со стажем, паливший из пушек ещё в Первую мировую, умный и хитрый солдат, незатейливо поинтересовался:
– А что, Ваня, ты не знаешь, кого снайпер первым убьёт?
Иван онемел, он почувствовал подвох в этом вопросе.
– Снайпер в первую очередь значимую и важную фигуру выискивает, офицера, – пояснил дед. – От тебя, Ваня, за версту несёт сытым офицером, правда, пока – комендатуры; ремни-то сними.
Иван всё понял, и уже вечером его нельзя было отличить от любого солдата батареи. Ну куда от этого денешься, какой мальчишка не хотел прихвастнуть хромовыми офицерскими сапогами, кожаным ремнём да медалью, что у него уже блестела на груди, но и её он спрятал от снайпера – теперь ведь уже начинал понимать.
Под Царицыном, а с точки зрения исторической правды – под Сталинградом, немцы оказались в котле окружения. Об этом много уже написано. Ночью им на парашютах сбрасывали продовольствие. Они подавали сигналы ракетами, по-разному – видимо, договаривались по рации. Нашлись и у нас смекалистые ребята: заметят, как немцы сигналят, и тоже такой сигнал подают, например, немцы пускают три красные ракеты, и наши – три красные. Лётчик ничего понять не может, что называется, мечется и бросает груз на середину Волги. Ну а тут кто быстрее… И с той и с другой стороны ползут… Самые отчаянные. У немцев тушёнка была неплохая и хлеб в маленьких буханках, переложенных вощёной бумагой. Небольшой кусочек откусишь, разжуёшь, и полный рот. Вроде как прессованный. Говорили, что он у них по 20 лет на складах вылёживал. Командование строго запрещало играть в такие игры с фашистами. Из-за этой несчастной посылки убивали солдаты друг друга. Немцы-то от голода буйствовали, а наши солдаты, молодые в основном, для развлечения больше устраивали такие «побоища». Ну иногда, чтобы шнапсу немецкого хлебнуть. Но была и другая сторона медали, трагическая. Бросал фашист вместо продуктов и спиртных напитков взрывчатку, это была ловушка – и сигналы ракет, и их цвет были с пилотом обговорены. Начинают потом бойцы её распечатывать, тут она и рвёт всех на куски. Иван по своей глупости участвовал в таких играх, несмотря на все запреты. И на немцев нарывались – всех тогда положили, один Иван двух фашистов сапёрной лопаткой изрубил. На взрывчатку не нарывался – везло, а вот тушёнки вражеской объедался до того, что штаны не застёгивал, потому что до уборной добегать не успевал. Тогда и случилась с ним эта история, которую долго помнил, и тушёнку есть перестал, и по льду Волги за посылками больше не ползал.
Когда начался бой, живот у него от тушёнки скрутило так, что передать невозможно, какие боли и спазмы начались. Перед боем это было, в принципе, у каждого солдата. Как говорят, у хорошего солдата перед боем всегда понос, но не с такими болями. Природа как бы сама готовила их на случай ранения – желудок и кишечник должны быть пустыми, иначе любое попадание пули или осколка в живот приведёт к перитониту. Когда всё содержимое, что через рот намнёшь, при ранении проваливалось в несчастное брюхо, а там воспалялось и гнило. Умирали от перитонита все, выживших таких раненых с перитонитом Иван не помнил. В этот раз он не мог понять, откуда из него столько бралось и выливалось, что уже и стыд пропал. Комбат увидел его муки и закричал:
– Беги, где снаряды у нас – место укромное!
От батареи это было достаточно далеко расположено, ведь не дай бог туда вражеский снаряд попадёт, тогда боеприпасов для своих орудий не останется, это уж точно, но взрыв будет такой мощный, что своих покалечит. Иван промучился минут сорок, боя не видел – временный склад для снарядов в овраге находился, но он обратил внимание, что уже как минут десять бойцы за снарядами не прибегают. Вернувшись на позицию, где была батарея, глазам своим не поверил: живых нет, пушки танками размяты и покорёжены. То ли в голове у него, то ли и вправду показалось, что мёртвые стонут. Еле дыхание сумел перевести. А это дед стонет, грудь вся в крови, но губами ещё шевелит.
Настоящую фамилию деда-героя, того самого, что про снайпера его учил, Иван хорошо запомнил. Стоянов это был, Иван Федосеевич. И он подбежал к нему, согнулся, чтобы услышать из уст того, чего дед пытается сказать – пить хочет или ещё что. Стекавшие изо рта слюни с тёплой, парящей на морозе кровью мешали говорить деду, но Иван заметил, что он уже снял зимний полушубок, который он один только носил на батарее, и попросил:
– Ваня, достань из вещмешка чистую гимнастёрку и надень на меня, в ней умереть хочу!
Иван уже не понимал смысла слов, всё делал на автомате, механически. И когда надел на деда гимнастёрку образца, вероятно, Первой мировой войны, то увидел на ней медали и ордена царской армии, ордена и медали с Гражданской войны. Были здесь награды и от белых, и от красных, ордена и медали с Советско-финляндской войны, и совсем недавно полученные на войне в Испании, и здесь же – в Великой Отечественной войне. Встал Иван перед солдатом русской армии, перед солдатом земли Русской, встал в полный рост, как в карауле, или словно взял на караул – выпрямился и напружинился, будто честь отдавал. Зарыдал, как сотни тысяч рыдающих матерей и жён, сыновей и дочерей, и долго не мог остановиться, а дед закрыл глаза и тихо умер.
Замполит дивизии орал, чтобы убрали с деда это «безобразие», и подозревал Ивана, что тот нарочно это сделал – за ним такое, мол, водилось. Лишь комдив, что недавно вернулся из сталинских лагерей, когда ему вернули звание генерала, тут оборвал замполита и сказал:
– Да, он воевал. И за красных, и за белых. Но воевал он за землю Русскую и умер за неё, как герой!
Потом он приказал все ордена и медали, все до единого, вместе с наградными книжками переправить родственникам, а они пусть решают, что с ними делать.
– Они навеки будут принадлежать его детям и внукам! История нас рассудит! – так сказал человек, который недавно хлебал тюремную баланду, который тоже воевал на разных фронтах и знал цену любой награде. Именно тот, кто рисковал своей жизнью, мог понять разницу между добром и злом и медалью, заработанной кровью и потом или шарканьем военных сапог по паркетному полу.
…Курск, в конечном счёте, стал особой вехой в жизни Ивана, как и эпохальной страницей в истории страны. Иван повстречал Зинаиду, которая была из Курской области, где красиво поют соловьи. Иван воевал на Курской дуге, где жизнь и смерть балансировали на неустойчивых чашах весов.
И жизнь с Зинаидой, теперь уже можно сказать, стала особой и трагической, в его неустанной борьбе с самим собой, или с судьбой, или с тихим домашним уютом. Эту жизнь он отравит сам. Это та борьба, глупая и никчёмная, несуразная, где нет, и не бывает победителей, а только есть слёзы и страдания всем, кто вольно или невольно стал участником драматического действа под названием «семейный очаг».
…Сейчас их батарея стояла на танкоопасном направлении. Но подлый и наглый снайпер бил и бил откуда-то с тыла, все подозревали и догадывались – точно, с часовни, что находилась за их спинами, солдат и офицеров батареи. Иван уже к тому времени стал старшим лейтенантом, грудь его покрылась орденами и медалями. Война для Ивана была в самом разгаре, он по-военному возмужал и набрался опыта. В тот момент, когда комбат взял трубку у связистов и получил приказ отступать, был убит снайпером прямо в голову. Связь оборвалась. Кругом шли бои, тогда Иван и увидел и узнал, как немецкие танки утюжат русские окопы и наматывают человеческие тела на гусеницы с ужасным хрустом костей и лязгом, переползая по мокрому грунту, перемешанному с землёй и человеческой плотью, напоминавшей окровавленный фарш. Крики и стоны заглушали шум вражеских танковых моторов.
Никто из батареи не узнал про приказ об отступлении. Иван поручил двум солдатам найти снайпера живым или мёртвым доставить его в расположение батареи. Он взял всё командование на себя и начал пристреливать орудия, пока ещё не появились фашистские танки. Как это происходит, что батарея пристрелялась, – специалисты знают, но нам сейчас главное не это…
На батарею притащили снайпера. И Иван, видя, как на Курской земле льётся кровь советского народа, понимал, что этот снайпер не дал бы батарее вести огонь, выбил бы всех подчистую, не жалея никого – ни офицера, ни солдата, ни девчонку фельдшера. Он заколол снайпера штыком от винтовки, но сделал это не по-военному, не с достоинством, а остервенело, как маньяк, убивающий свою жертву. Он тыкал его штыком до тех пор, пока разглядеть и увидеть по лицу немецкого солдата, что это всё-таки образ человека, стало невозможно.
Первый танк появился через час с открытыми люками, с бранью, что вырывалась и неслась из люков на ломаном русском языке вперемежку с чистым немецким языком, который Иван учил сначала в детдоме, а затем освоил его на войне до приличного разговорного объёма. Он догадывался и понимал, чего хотели фашисты, опыт уже накопился: они дразнили, чтобы русские начали стрелять и обнаружили боевые расчёты.
В тех кустах, до которых немцы доползли на единственном танке-разведчике, и была пристрелянная точка наиболее точного поражения врага и дальности стрельбы наших орудий. Вот там они должны будут выстроиться в боевые порядки, и, если Иван не ошибся в расчётах, наши пушкари начнут выбивать их, а он не сомневался, что не даст им легко пройти на этом участке. На батарее было много новичков, но с каждым наводчиком Иван занимался лично и точность попаданий довёл до максимального процента, который можно было выжать за это время, что он воевал и видел уже много расчётов и толковых боевых ребят.
– Не пройдут! Ни за что не пройдут! – шептал он. И здесь его заражала не только ненависть, но, конечно, и юношеское самолюбие, когда комбат был убит, а судьба батареи, солдат, девчонки фельдшера, да и его самого, Ивана, зависели теперь во многом от военной судьбы и от него лично, от выучки и от мастерства всех на батарее.
– Не пройдут! – сказал он себе, но теперь так громко, что услышали все. Но никто не засомневался, что этот жестокий, злой детдомовский паренёк, никогда не поднявший руки на своего солдата, подведёт их или сдаст врагу маленький клочок русской земли, который они долго уже удерживали, будто здесь решалась судьба всей огромной страны и всего фронта.
Разведка немцам ничего не дала, все лежали или сидели молча, не выдавая себя, но всё сильнее и сильнее стал нарастать гул танков, и Иван в бинокль начал лихорадочно их считать, чтобы понять и высчитать соотношение сил. Он, охваченный пылом, страхом и ужасом, насчитал 72 танка, соотношение было не в пользу батареи, если разделить на четыре пушки, что было нетрудно.
– Стоять насмерть! – сказал он громко. – А кто побежит, заколю лично, как штыком заколол фашистского снайпера!
Но слова такие были лишними. На батарее не было трусов. И сам он потом будет жалеть, что сказал так, потому что никогда не обижал своих солдат – они все для него как детдомовские… Не было у них здесь ни отцов, ни матерей, а если где и были, то очень далеко или не очень – теперь не имело значения, как и то, что у кого-то они остались под немцами на оккупированной территории, а у некоторых пропали в неизвестном направлении эвакуации. Он просто впервые почувствовал себя для них отцом, или матерью, или всем вместе сразу в одном лице и сам понять этого не мог, зачем сказал так грубо. Наверное, оттого, что никогда на себе в полной мере не испытал чувства любви отца или матери и какими они должны быть для своих детей, не знал. Да, они стояли насмерть.
Через час от батареи не останется ничего. А уцелевшие немецкие танки, потому что их было больше, а у Ивана всего ничего – четыре пушки, да и тех уже не было, обогнут выжженную Иванову позицию слева и справа и уйдут дальше, в тот тыл, назад, куда батарея должна была перегруппироваться. Но этот приказ комбат унёс с собой вместе со смертью, но фашистские танки всё равно глубоко через оборонительный рубеж не пройдут, а сгорят на пожарище войны, далеко от родины, потому что ими управляли фашисты, что пришли грабить и убивать честных советских людей.
Иван огляделся вокруг: танков подбитых было много. Последние минуты боя, он помнил, шли на Ивановой позиции. В рукопашную, нос к носу. Как в штыковую. И он выкатывал орудие на прямую наводку, целился через ствол и стрелял. Все другие, кто в эти минуты был ещё жив, забрасывали вражеские фашистские чудовища противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Как он остался жив, понять не мог – наверное, опять повезло. Он направился к блиндажу, или скорее это была просто землянка, где лежали раненые. Их было шестеро – перебинтованных, перевязанных, стонущих и молчащих в тревожном, безвыходном ожидании. Фельдшер Анюта, молодая, русоволосая, со светло-синими глазами девчонка, лежала почти у входа.
Весь её низ, или всё, что было ниже пояса и выше колен, теперь оказалось раздробленным, размятым и окровавленным. Рядом дымился фашистский танк, который это сделал, когда она его забрасывала бутылками с коктейлем Молотова и вместе с танком сожгла весь экипаж, который собирался гусеницами раздавить крышу и стены её «больнички», крытого углубления в земле, и заживо похоронить пациентов, шестерых раненых солдат. Эта мужественная и смелая девчонка, почти ещё ребёнок, из Рязани еле-еле сдерживала себя от крика и стона, собирая все силы и волю в один кулак, а вместе с ними страх и боль, чтобы не срамиться перед своими ранеными пациентами. Она обратилась к старшему лейтенанту не по уставу, Иван знал, что она испытывала к нему сильные женские чувства, и устав в эти минуты был не нужен:
– Ваня, дал бы пистолет, мучаюсь я сильно, всё равно… не выживу…
Он понимал, о чём и зачем она его просила, и не мог этого сделать по ряду серьёзных причин. Одна из них – он боялся особого отдела. Он слышал в частых разговорах о Берии, о нём знали здесь все: многие сослуживцы Ивана – герои – ушли в штрафные батальоны. Другие попали под расстрел трибуналов военного времени тут же, на месте; случалось, что на его глазах многих разжаловали или уводили прямо из строя в неизвестном направлении. И здесь он будто чувствовал, что чьи-то глаза всё время следят за ним, чтобы обвинить и покарать за то, что старший лейтенант Шабалов, имевший уже два ордена Отечественной войны, добивал своих после боя, имея неизвестные намерения вблизи линии фронта. А раненые солдатики наверняка на допросах под пытками подпишут у этих иезуитов Берии любые крамольные бумаги, чтобы сделать его предателем. Пока эти мысли заполняли голову Ивана, Анюта закрыла глаза, сделала последний выдох и умерла. Все годы, которые Иван жил после войны, ему часто снилась Анюта, которая просила у него пистолет. И он ей его давал, а она радостно и необычно смеялась и целовала его так сильно, что у него на щеках и губах оставались её сладкие слюни, но, просыпаясь в холодном поту и ужасных муках, он обнаруживал, что это были не сладкие слюни Анюты, а солёные и горькие собственные слёзы.
Этот сон изнурял ему душу до конца его жизни.
Он поил раненых спиртом, потому что не знал, как им ещё помочь. Сам тоже много пил, пока их не нашли свои же дня через четыре. Были разговоры, что Ивана представят к высокой награде, возможно к «Звезде Героя»; 36 танков и экипажей они оставили навечно на своей позиции – маленьком клочке Курской земли, не уступив ни пяди врагу.
Но вскоре, когда выяснилось, что главный герой жив, решили заменить звание героя на другой, но очень престижный орден, на что Иван почти не обиделся. Были рядом с ним герои и круче его, что уж греха-то таить, к тому же в России больше «любят» мёртвых, чем живых – он уже это успел понять.
В кабинете штабного генерала, а чаще их называли «паркетными», он выслушивал странные и непонятные для себя нарекания, крики о нарушении приказа отступать и что-то ещё в этом роде. Будучи грязным, обросшим чёрной щетиной, маленький, коренастый, пьяный, но твёрдо стоявший на ногах, Иван был безразличным до такой степени, что в этом состоянии готов был совершить любой героический поступок: броситься с гранатой на амбразуру, под танк, закрыть собой командира. Но слушать всякую чушь в этот момент он не мог и для чего это говорит генерал, совершенно не понимал. В конце концов, тот решил всё-таки пожать руку старшему лейтенанту, взявшему командование на себя, и поблагодарить за выбитые у врага танки. Самыми чистыми у Ивана были только кисти рук, потому что ему сказали, чтобы шёл в штаб расписаться в наградном журнале. Он кисти рук и помыл… Но понял потом, что над ним так посмеялись или просто пошутили, и когда он протянул свою правую ладонь для рукопожатия, она утонула в широкой и крепкой ладони генерала. Тот обомлел, что это была не рука, а ручонка юноши – тонкая, маленькая, с короткими пальчиками, и он спросил у Ивана прямо:
– Сколько тебе лет, старший лейтенант?
Иван не стал врать, рассказал всю правду, ему было уже всё равно. Он хотел на войну, и попал, и насмотрелся теперь досыта, навоевался, как хватил горячего до слёз. Признался, что ему 17 лет, что возраст приписал себе в детдоме, военкома Бездомного сдавать не стал, но всё равно попросил генерала не сообщать в особый отдел. Генерал обмяк, как будто постарел на глазах, провёл ладонью по голове сироты, погладил, потом раскрыл шкаф, где висел у него новый китель, и показал на ордена и медали, как померещилось Ивану, их там была тысяча или больше. Тот указал ему на орден Красной Звезды и сказал, что получил его в 16 лет, когда командовал конным полком Красной армии. Иван устыдился про себя, что подумал о генерале плохо, сравнивая его с «паркетным» генералом.
Иван с двумя такими же, как и он, курсантами заступил на ночное дежурство, чтобы пресекать действия предателей и диверсантов – задача нелёгкая: тебя бомбят, а в бомбоубежище не спрячешься, потому что как их тогда выследишь? Они заметили столб света, устремившийся в небо при приближении гула немецких бомбардировщиков; этот столб светил над тракторным заводом, который собирался выпускать танки. В плен решили взять диверсанта сами.
Что тогда двигало Иваном, он сформулировать не смог, даже когда писал объяснительную записку на имя начальника школы, где он учился на артиллериста. Было ли это желанием выделиться перед другими, прихвастнуть – может быть, он ловил себя на этой постыдной мысли, но всё же попытался успокоить себя тем, что он мог бы получить «Звезду Героя».
Вышел он на предателя раньше всех и скомандовал:
– Руки вверх!
А им оказался здоровый бугай, говорящий хорошо по-русски, но с украинским акцентом. Он взял за штык винтовку Ивана и легко подтянул его к себе.
Чем бы это закончилось, догадаться легко, потому что Иван настолько опешил, что даже забыл про винтовку и про то, что она заряжена и взведена – патрон в патроннике, – можно было стрелять и если не убить врага, то хотя бы наделать много шума, но вместо этого он заорал что было мочи:
– Бра-а-тцы-ы! – и обмочился прямо в штаны, новые армейские, недавно полученные со склада.
Двое курсантов, что были с ним, подоспели вовремя, еле-еле они втроём связали предателя и отвели в комендатуру. Наутро узнали, что его расстреляли прямо там, во дворе комендатуры. Курсант, что по возрасту был самым старшим среди них, сибиряк, пошутил над Иваном:
– Вот так, Ваня, становятся героями! – и показал на его мокрые штаны.
Иван отвёл глаза и покраснел. Воспоминания об этом случае сделали Ивана другим. Он вдохнул страшный холод смертоносного инея, горячий жар разливающегося под ложечкой сильнодействующего яда, который приводит к быстрой смерти. Он пытался потом вспомнить того страшного верзилу, эту тушу жирную и необъятную, из-за чего он не успел запомнить даже его лица: глаз, носа, рта, – потому что всё это вместе сливалось, как в огромную, бездонную и сырую могилу.
…Под Сталинградом, а были с Иваном и те, кто воевал в Гражданскую и даже в Первую мировую, они называли этот город чаще по-старому – Царицыном, война для Ивана здесь сложилась по-особому. Его ещё жалели из-за возраста, откуда-то все узнали, что ему мало лет, что он из детского дома – смуглый, красивый цыганёнок. Речь у него была простая, с особым тембром, похожая на речь диктора по радио, все это заметили, в детдоме не успели, так как голос у него тогда ломался – он взрослел и становился мужчиной. Должность у него была для блезиру – второй заместитель командира батареи; командование понимало, куда его под пули ставить, был как посыльный. Трусом он, конечно, себя не считал, хотел воевать как все и со всеми; как утверждал он сам, на миру и смерть красна. Но его пока во время боя посылали куда-нибудь с «важным» донесением. Пушки часто перетаскивали на себе, он, по молодости, снял с убитых немецких офицеров хорошие кожаные ремни, чтобы легче привязать и тащить пушку, так не резало плечи. И выглядел в этом убранстве как улан без коня, драгун на пушке или разноцветный гусар. За километры было видно ряженого чудака. Тут один дед, артиллерист со стажем, паливший из пушек ещё в Первую мировую, умный и хитрый солдат, незатейливо поинтересовался:
– А что, Ваня, ты не знаешь, кого снайпер первым убьёт?
Иван онемел, он почувствовал подвох в этом вопросе.
– Снайпер в первую очередь значимую и важную фигуру выискивает, офицера, – пояснил дед. – От тебя, Ваня, за версту несёт сытым офицером, правда, пока – комендатуры; ремни-то сними.
Иван всё понял, и уже вечером его нельзя было отличить от любого солдата батареи. Ну куда от этого денешься, какой мальчишка не хотел прихвастнуть хромовыми офицерскими сапогами, кожаным ремнём да медалью, что у него уже блестела на груди, но и её он спрятал от снайпера – теперь ведь уже начинал понимать.
Под Царицыном, а с точки зрения исторической правды – под Сталинградом, немцы оказались в котле окружения. Об этом много уже написано. Ночью им на парашютах сбрасывали продовольствие. Они подавали сигналы ракетами, по-разному – видимо, договаривались по рации. Нашлись и у нас смекалистые ребята: заметят, как немцы сигналят, и тоже такой сигнал подают, например, немцы пускают три красные ракеты, и наши – три красные. Лётчик ничего понять не может, что называется, мечется и бросает груз на середину Волги. Ну а тут кто быстрее… И с той и с другой стороны ползут… Самые отчаянные. У немцев тушёнка была неплохая и хлеб в маленьких буханках, переложенных вощёной бумагой. Небольшой кусочек откусишь, разжуёшь, и полный рот. Вроде как прессованный. Говорили, что он у них по 20 лет на складах вылёживал. Командование строго запрещало играть в такие игры с фашистами. Из-за этой несчастной посылки убивали солдаты друг друга. Немцы-то от голода буйствовали, а наши солдаты, молодые в основном, для развлечения больше устраивали такие «побоища». Ну иногда, чтобы шнапсу немецкого хлебнуть. Но была и другая сторона медали, трагическая. Бросал фашист вместо продуктов и спиртных напитков взрывчатку, это была ловушка – и сигналы ракет, и их цвет были с пилотом обговорены. Начинают потом бойцы её распечатывать, тут она и рвёт всех на куски. Иван по своей глупости участвовал в таких играх, несмотря на все запреты. И на немцев нарывались – всех тогда положили, один Иван двух фашистов сапёрной лопаткой изрубил. На взрывчатку не нарывался – везло, а вот тушёнки вражеской объедался до того, что штаны не застёгивал, потому что до уборной добегать не успевал. Тогда и случилась с ним эта история, которую долго помнил, и тушёнку есть перестал, и по льду Волги за посылками больше не ползал.
Когда начался бой, живот у него от тушёнки скрутило так, что передать невозможно, какие боли и спазмы начались. Перед боем это было, в принципе, у каждого солдата. Как говорят, у хорошего солдата перед боем всегда понос, но не с такими болями. Природа как бы сама готовила их на случай ранения – желудок и кишечник должны быть пустыми, иначе любое попадание пули или осколка в живот приведёт к перитониту. Когда всё содержимое, что через рот намнёшь, при ранении проваливалось в несчастное брюхо, а там воспалялось и гнило. Умирали от перитонита все, выживших таких раненых с перитонитом Иван не помнил. В этот раз он не мог понять, откуда из него столько бралось и выливалось, что уже и стыд пропал. Комбат увидел его муки и закричал:
– Беги, где снаряды у нас – место укромное!
От батареи это было достаточно далеко расположено, ведь не дай бог туда вражеский снаряд попадёт, тогда боеприпасов для своих орудий не останется, это уж точно, но взрыв будет такой мощный, что своих покалечит. Иван промучился минут сорок, боя не видел – временный склад для снарядов в овраге находился, но он обратил внимание, что уже как минут десять бойцы за снарядами не прибегают. Вернувшись на позицию, где была батарея, глазам своим не поверил: живых нет, пушки танками размяты и покорёжены. То ли в голове у него, то ли и вправду показалось, что мёртвые стонут. Еле дыхание сумел перевести. А это дед стонет, грудь вся в крови, но губами ещё шевелит.
Настоящую фамилию деда-героя, того самого, что про снайпера его учил, Иван хорошо запомнил. Стоянов это был, Иван Федосеевич. И он подбежал к нему, согнулся, чтобы услышать из уст того, чего дед пытается сказать – пить хочет или ещё что. Стекавшие изо рта слюни с тёплой, парящей на морозе кровью мешали говорить деду, но Иван заметил, что он уже снял зимний полушубок, который он один только носил на батарее, и попросил:
– Ваня, достань из вещмешка чистую гимнастёрку и надень на меня, в ней умереть хочу!
Иван уже не понимал смысла слов, всё делал на автомате, механически. И когда надел на деда гимнастёрку образца, вероятно, Первой мировой войны, то увидел на ней медали и ордена царской армии, ордена и медали с Гражданской войны. Были здесь награды и от белых, и от красных, ордена и медали с Советско-финляндской войны, и совсем недавно полученные на войне в Испании, и здесь же – в Великой Отечественной войне. Встал Иван перед солдатом русской армии, перед солдатом земли Русской, встал в полный рост, как в карауле, или словно взял на караул – выпрямился и напружинился, будто честь отдавал. Зарыдал, как сотни тысяч рыдающих матерей и жён, сыновей и дочерей, и долго не мог остановиться, а дед закрыл глаза и тихо умер.
Замполит дивизии орал, чтобы убрали с деда это «безобразие», и подозревал Ивана, что тот нарочно это сделал – за ним такое, мол, водилось. Лишь комдив, что недавно вернулся из сталинских лагерей, когда ему вернули звание генерала, тут оборвал замполита и сказал:
– Да, он воевал. И за красных, и за белых. Но воевал он за землю Русскую и умер за неё, как герой!
Потом он приказал все ордена и медали, все до единого, вместе с наградными книжками переправить родственникам, а они пусть решают, что с ними делать.
– Они навеки будут принадлежать его детям и внукам! История нас рассудит! – так сказал человек, который недавно хлебал тюремную баланду, который тоже воевал на разных фронтах и знал цену любой награде. Именно тот, кто рисковал своей жизнью, мог понять разницу между добром и злом и медалью, заработанной кровью и потом или шарканьем военных сапог по паркетному полу.
…Курск, в конечном счёте, стал особой вехой в жизни Ивана, как и эпохальной страницей в истории страны. Иван повстречал Зинаиду, которая была из Курской области, где красиво поют соловьи. Иван воевал на Курской дуге, где жизнь и смерть балансировали на неустойчивых чашах весов.
И жизнь с Зинаидой, теперь уже можно сказать, стала особой и трагической, в его неустанной борьбе с самим собой, или с судьбой, или с тихим домашним уютом. Эту жизнь он отравит сам. Это та борьба, глупая и никчёмная, несуразная, где нет, и не бывает победителей, а только есть слёзы и страдания всем, кто вольно или невольно стал участником драматического действа под названием «семейный очаг».
…Сейчас их батарея стояла на танкоопасном направлении. Но подлый и наглый снайпер бил и бил откуда-то с тыла, все подозревали и догадывались – точно, с часовни, что находилась за их спинами, солдат и офицеров батареи. Иван уже к тому времени стал старшим лейтенантом, грудь его покрылась орденами и медалями. Война для Ивана была в самом разгаре, он по-военному возмужал и набрался опыта. В тот момент, когда комбат взял трубку у связистов и получил приказ отступать, был убит снайпером прямо в голову. Связь оборвалась. Кругом шли бои, тогда Иван и увидел и узнал, как немецкие танки утюжат русские окопы и наматывают человеческие тела на гусеницы с ужасным хрустом костей и лязгом, переползая по мокрому грунту, перемешанному с землёй и человеческой плотью, напоминавшей окровавленный фарш. Крики и стоны заглушали шум вражеских танковых моторов.
Никто из батареи не узнал про приказ об отступлении. Иван поручил двум солдатам найти снайпера живым или мёртвым доставить его в расположение батареи. Он взял всё командование на себя и начал пристреливать орудия, пока ещё не появились фашистские танки. Как это происходит, что батарея пристрелялась, – специалисты знают, но нам сейчас главное не это…
На батарею притащили снайпера. И Иван, видя, как на Курской земле льётся кровь советского народа, понимал, что этот снайпер не дал бы батарее вести огонь, выбил бы всех подчистую, не жалея никого – ни офицера, ни солдата, ни девчонку фельдшера. Он заколол снайпера штыком от винтовки, но сделал это не по-военному, не с достоинством, а остервенело, как маньяк, убивающий свою жертву. Он тыкал его штыком до тех пор, пока разглядеть и увидеть по лицу немецкого солдата, что это всё-таки образ человека, стало невозможно.
Первый танк появился через час с открытыми люками, с бранью, что вырывалась и неслась из люков на ломаном русском языке вперемежку с чистым немецким языком, который Иван учил сначала в детдоме, а затем освоил его на войне до приличного разговорного объёма. Он догадывался и понимал, чего хотели фашисты, опыт уже накопился: они дразнили, чтобы русские начали стрелять и обнаружили боевые расчёты.
В тех кустах, до которых немцы доползли на единственном танке-разведчике, и была пристрелянная точка наиболее точного поражения врага и дальности стрельбы наших орудий. Вот там они должны будут выстроиться в боевые порядки, и, если Иван не ошибся в расчётах, наши пушкари начнут выбивать их, а он не сомневался, что не даст им легко пройти на этом участке. На батарее было много новичков, но с каждым наводчиком Иван занимался лично и точность попаданий довёл до максимального процента, который можно было выжать за это время, что он воевал и видел уже много расчётов и толковых боевых ребят.
– Не пройдут! Ни за что не пройдут! – шептал он. И здесь его заражала не только ненависть, но, конечно, и юношеское самолюбие, когда комбат был убит, а судьба батареи, солдат, девчонки фельдшера, да и его самого, Ивана, зависели теперь во многом от военной судьбы и от него лично, от выучки и от мастерства всех на батарее.
– Не пройдут! – сказал он себе, но теперь так громко, что услышали все. Но никто не засомневался, что этот жестокий, злой детдомовский паренёк, никогда не поднявший руки на своего солдата, подведёт их или сдаст врагу маленький клочок русской земли, который они долго уже удерживали, будто здесь решалась судьба всей огромной страны и всего фронта.
Разведка немцам ничего не дала, все лежали или сидели молча, не выдавая себя, но всё сильнее и сильнее стал нарастать гул танков, и Иван в бинокль начал лихорадочно их считать, чтобы понять и высчитать соотношение сил. Он, охваченный пылом, страхом и ужасом, насчитал 72 танка, соотношение было не в пользу батареи, если разделить на четыре пушки, что было нетрудно.
– Стоять насмерть! – сказал он громко. – А кто побежит, заколю лично, как штыком заколол фашистского снайпера!
Но слова такие были лишними. На батарее не было трусов. И сам он потом будет жалеть, что сказал так, потому что никогда не обижал своих солдат – они все для него как детдомовские… Не было у них здесь ни отцов, ни матерей, а если где и были, то очень далеко или не очень – теперь не имело значения, как и то, что у кого-то они остались под немцами на оккупированной территории, а у некоторых пропали в неизвестном направлении эвакуации. Он просто впервые почувствовал себя для них отцом, или матерью, или всем вместе сразу в одном лице и сам понять этого не мог, зачем сказал так грубо. Наверное, оттого, что никогда на себе в полной мере не испытал чувства любви отца или матери и какими они должны быть для своих детей, не знал. Да, они стояли насмерть.
Через час от батареи не останется ничего. А уцелевшие немецкие танки, потому что их было больше, а у Ивана всего ничего – четыре пушки, да и тех уже не было, обогнут выжженную Иванову позицию слева и справа и уйдут дальше, в тот тыл, назад, куда батарея должна была перегруппироваться. Но этот приказ комбат унёс с собой вместе со смертью, но фашистские танки всё равно глубоко через оборонительный рубеж не пройдут, а сгорят на пожарище войны, далеко от родины, потому что ими управляли фашисты, что пришли грабить и убивать честных советских людей.
Иван огляделся вокруг: танков подбитых было много. Последние минуты боя, он помнил, шли на Ивановой позиции. В рукопашную, нос к носу. Как в штыковую. И он выкатывал орудие на прямую наводку, целился через ствол и стрелял. Все другие, кто в эти минуты был ещё жив, забрасывали вражеские фашистские чудовища противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Как он остался жив, понять не мог – наверное, опять повезло. Он направился к блиндажу, или скорее это была просто землянка, где лежали раненые. Их было шестеро – перебинтованных, перевязанных, стонущих и молчащих в тревожном, безвыходном ожидании. Фельдшер Анюта, молодая, русоволосая, со светло-синими глазами девчонка, лежала почти у входа.
Весь её низ, или всё, что было ниже пояса и выше колен, теперь оказалось раздробленным, размятым и окровавленным. Рядом дымился фашистский танк, который это сделал, когда она его забрасывала бутылками с коктейлем Молотова и вместе с танком сожгла весь экипаж, который собирался гусеницами раздавить крышу и стены её «больнички», крытого углубления в земле, и заживо похоронить пациентов, шестерых раненых солдат. Эта мужественная и смелая девчонка, почти ещё ребёнок, из Рязани еле-еле сдерживала себя от крика и стона, собирая все силы и волю в один кулак, а вместе с ними страх и боль, чтобы не срамиться перед своими ранеными пациентами. Она обратилась к старшему лейтенанту не по уставу, Иван знал, что она испытывала к нему сильные женские чувства, и устав в эти минуты был не нужен:
– Ваня, дал бы пистолет, мучаюсь я сильно, всё равно… не выживу…
Он понимал, о чём и зачем она его просила, и не мог этого сделать по ряду серьёзных причин. Одна из них – он боялся особого отдела. Он слышал в частых разговорах о Берии, о нём знали здесь все: многие сослуживцы Ивана – герои – ушли в штрафные батальоны. Другие попали под расстрел трибуналов военного времени тут же, на месте; случалось, что на его глазах многих разжаловали или уводили прямо из строя в неизвестном направлении. И здесь он будто чувствовал, что чьи-то глаза всё время следят за ним, чтобы обвинить и покарать за то, что старший лейтенант Шабалов, имевший уже два ордена Отечественной войны, добивал своих после боя, имея неизвестные намерения вблизи линии фронта. А раненые солдатики наверняка на допросах под пытками подпишут у этих иезуитов Берии любые крамольные бумаги, чтобы сделать его предателем. Пока эти мысли заполняли голову Ивана, Анюта закрыла глаза, сделала последний выдох и умерла. Все годы, которые Иван жил после войны, ему часто снилась Анюта, которая просила у него пистолет. И он ей его давал, а она радостно и необычно смеялась и целовала его так сильно, что у него на щеках и губах оставались её сладкие слюни, но, просыпаясь в холодном поту и ужасных муках, он обнаруживал, что это были не сладкие слюни Анюты, а солёные и горькие собственные слёзы.
Этот сон изнурял ему душу до конца его жизни.
Он поил раненых спиртом, потому что не знал, как им ещё помочь. Сам тоже много пил, пока их не нашли свои же дня через четыре. Были разговоры, что Ивана представят к высокой награде, возможно к «Звезде Героя»; 36 танков и экипажей они оставили навечно на своей позиции – маленьком клочке Курской земли, не уступив ни пяди врагу.
Но вскоре, когда выяснилось, что главный герой жив, решили заменить звание героя на другой, но очень престижный орден, на что Иван почти не обиделся. Были рядом с ним герои и круче его, что уж греха-то таить, к тому же в России больше «любят» мёртвых, чем живых – он уже это успел понять.
В кабинете штабного генерала, а чаще их называли «паркетными», он выслушивал странные и непонятные для себя нарекания, крики о нарушении приказа отступать и что-то ещё в этом роде. Будучи грязным, обросшим чёрной щетиной, маленький, коренастый, пьяный, но твёрдо стоявший на ногах, Иван был безразличным до такой степени, что в этом состоянии готов был совершить любой героический поступок: броситься с гранатой на амбразуру, под танк, закрыть собой командира. Но слушать всякую чушь в этот момент он не мог и для чего это говорит генерал, совершенно не понимал. В конце концов, тот решил всё-таки пожать руку старшему лейтенанту, взявшему командование на себя, и поблагодарить за выбитые у врага танки. Самыми чистыми у Ивана были только кисти рук, потому что ему сказали, чтобы шёл в штаб расписаться в наградном журнале. Он кисти рук и помыл… Но понял потом, что над ним так посмеялись или просто пошутили, и когда он протянул свою правую ладонь для рукопожатия, она утонула в широкой и крепкой ладони генерала. Тот обомлел, что это была не рука, а ручонка юноши – тонкая, маленькая, с короткими пальчиками, и он спросил у Ивана прямо:
– Сколько тебе лет, старший лейтенант?
Иван не стал врать, рассказал всю правду, ему было уже всё равно. Он хотел на войну, и попал, и насмотрелся теперь досыта, навоевался, как хватил горячего до слёз. Признался, что ему 17 лет, что возраст приписал себе в детдоме, военкома Бездомного сдавать не стал, но всё равно попросил генерала не сообщать в особый отдел. Генерал обмяк, как будто постарел на глазах, провёл ладонью по голове сироты, погладил, потом раскрыл шкаф, где висел у него новый китель, и показал на ордена и медали, как померещилось Ивану, их там была тысяча или больше. Тот указал ему на орден Красной Звезды и сказал, что получил его в 16 лет, когда командовал конным полком Красной армии. Иван устыдился про себя, что подумал о генерале плохо, сравнивая его с «паркетным» генералом.