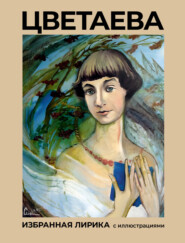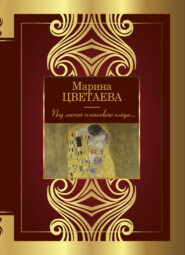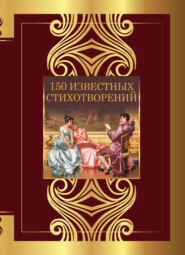По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Проза (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Церковь Бориса и Глеба. Наша, Поварская[1 - Есть еще на Арбатской площади (примеч. М. Цветаевой).]. Сворачиваем в переулок – наш, Борисоглебский. Белый дом Епархиального училища, я его всегда называла «voli?re»: сквозная галерея и детские голоса. А налево тот, зеленый, старинный, навытяжку (градоначальник жил и городовые стояли). И еще один. И наш.
Крыльцо против двух деревьев. Схожу. Снимаю вещи. Отделившись от ворот, двое в полувоенном. Подходят. «Мы домовая охрана. Что вам угодно?» – «Я такая-то и здесь живу». – «Никого по ночам пускать не велено». – «Тогда позовите, пожалуйста, прислугу. Из третьей квартиры». (Мысль: сейчас, сейчас, сейчас скажут. Они здесь живут и все знают.)
«Мы вам не слуги». – «Я заплачу».
Идут. Жду. Не живу. Ноги, на которых стою, руки, которыми держу чемоданы (так и не спустила). И сердца не слышу. Если б не оклик извозчика, и не поняла бы, что долго, что чудовищно-долго.
– Да что ж, барышня, отпустите или нет? Мне еще на Покровскую надо.
– Прибавлю.
Тихий ужас, что, вот, уедет: в нем моя последняя жизнь, последняя жизнь до... Однако, спустив вещи, раскрываю сумку: три, десять, двенадцать, семнадцать… нужно пятьдесят… Где же возьму, если…
Шаг. Звук сначала одной двери, потом другой. Сейчас откроется входная. Женщина, в платке, незнакомая.
Я, не давая сказать:
– Вы новая прислуга?
– Да.
– Барин убит?
– Жив.
– Ранен?
– Нет.
– То есть как? Где же он был все время?
– А в Александровском, с юнкерями, – уж мы страху натерпелись! Слава Богу, Господь помиловал. Только отощали очень. И сейчас они в N-ском переулке, у знакомых. И детки там, и сестры бариновы… Все здоровы, благополучны, только вас ждут.
– У вас найдется 33 рубля, извозчику доплатить?
– А как же, как же, вот сейчас только вещи внесем.
Вносим вещи, отпускаем извозчика, Дуня берется меня проводить. Захватываю с собой один из двух крымских хлебов. Идем. Битая Поварская. Булыжники. Рытвины. Небо чуть светлеет. Колокола.
Заворачиваем в переулок. Семиэтажный дом. Звоню. Двое в шубах и шапках. При чиркающей спичке – блеск пенсне. Спичка прямо в лицо:
– Что вам нужно?
– Я только что из Крыма и хочу к своим.
– Да ведь это неслыханно, в 6 часов утра в дом врываться!
– Я хочу к своим.
– Успеете. Вот заходите к 9-ти часам, тогда посмотрим.
Тут вступается прислуга:
– Да что вы, господа, у них дети маленькие. Бог знает сколько не виделись. И я их очень хорошо знаю, оне личность вполне благонадежная, свой дом на Полянке.
– А все-таки мы вас впустить не можем.
Тут я, не выдерживая:
– А вы – кту?
– Мы домовая охрана.
– А я такая-то, жена своего мужа и мать своих детей. Пустите, я все равно войду.
И, наполовину пропущенная, наполовину прорвавшись – шести площадок как не бывало! – седьмая.
(Так это у меня и осталось, первое видение буржуазии в Революции: уши, прячущиеся в шапках, души, прячущиеся в шубах, головы, прячущиеся в шеях, глаза, прячущиеся в стеклах. Ослепительное – при вспыхивающей спичке – видение шкуры.)
Снизу голос прислуги: «Счастливо свидеться!»
Стучу. Открывают.
– Сережа спит? Где его комната?
И, через секунду, с порога:
– Сережа! Это я! Только что приехала. У вас внизу – ужасные мерзавцы. А юнкера все-таки победили! Да есть ли Вы здесь или нет?
В комнате темно. И, удостоверившись:
– Ехала три дня. Привезла Вам хлеб. Простите, что черствый. Матросы – ужасные мерзавцы! Познакомилась с Пугачевым. Сереженька, Вы живы – и…
В вечер того же дня уезжаем: С<<ережа>>, его друг Г<<ольц>>ев и я, в Крым.
Кусочек крыма
Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физически жгущая радость Макса В<<олошина>> при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба.
Видение Макса В<<олошина>> на приступочке башни, с Тэном на коленях, жарящего лук. И пока лук жарится, чтение вслух, С<<ереже>> и мне завтрашних и послезавтрашних судеб России.
– А теперь, Сережа, будет то-то… Запомни.
И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картинку за картинкой – всю русскую Революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь…
С Г<<оль>>цевым за хлебом.
Кофейня в Отузах. На стенах большевицкие воззвания. У столов длиннобородые татары. Как медленно пьют, как скупо говорят, как важно движутся. Для них время остановилось. XVII в. – XX в. И чашечки те же, синие, с каббалистическими знаками, без ручек. Большевизм? Марксизм?