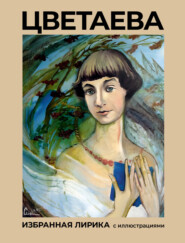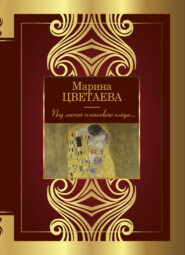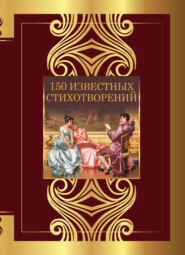По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повесть о Сонечке
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1937
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Еще тирэ – и еще подлиннее: в целые десять лет. 14-ое мая 1937 г., пятница. Спускаемся с Муром, тем, двухгодовалым, ныне двенадцатилетним, к нашему метро Mairie-d'Jssy и приблизительно у лавки Provence он – мне, верней – себе:
– А American Sunday это ведь ихнее Dimanche Illustre![43 - Иллюстрированный воскресный выпуск (фр.).]
– А что значит – Holiday?
– Свободный день, вообще – каникулы.
– Это значит – праздник. Так звали женщину, которую я больше всех женщин на свете любила. А может быть – больше всех. Я думаю – больше всего. Сонечка Голлидэй. Вот, Мур, тебе бы такую жену!
Он, возмущенно: – Ма-ама!
– Я не говорю: эту жену, она уже теперь немолодая, она была года на три моложе меня.
– Я не хочу жениться на старухе! Я вообще не хочу жениться.
– Дурак. Я не говорю: на Сонечке Голлидэй, а на такой, как Сонечка. Впрочем – таких нет, так что ты можешь успокоиться – и вообще никто ее не достоин.
– Мама! Я ведь ее не знаю, вы говорите о чем-то, что вы знаете, – вы конечно можете мне рассказать…
– Но тебе ведь – неинтересно…
(Он, думая о ждущем его на углу бульвара Raspail газетном киоске с американскими Микэями:)
– Нет, очень интересно…
– Мур, она была маленькая девочка, и, – ища слова, – и настоящий чертенок! У нее были две длинных, длинных темных косы… (У Мура – невольная гримаса: «au temps des cheveux et des chevaux»)[44 - Во времена кос и лошадей (фр.).] …и она была такая маленькая… куда меньше тебя (гримаса увеличивается) – потому что ты уже больше меня… (соблазняя) и такая храбрая: она обед носила юнкерам под выстрелами в Храм Христа Спасителя…
– А почему эти юнкера в церкви обедали?
– Не важно. Важно, что под выстрелами. Ей я на прощанье сказала: – Сонечка, что бы со мной ни было, пока вы есть – все хорошо. Она была самое красивое, что я когда-либо в жизни видела, самое сладкое, что я когда-либо в жизни ела… (Мур: – Фу, мама!) Она мне писала письма, и в одном письме, последнем: – Марина! Как я люблю ваши руки, которые должны быть только целуемы, а они двигают шкафы и подымают пуды…
– Ну, это уж – романтизм! Почему – целуемы?
– Потому что… потому что… (prenant l'offensive)[45 - Принимая наступательный тон (фр.).] – а что ты имеешь на это возразить?
– Ничего, но если бы она например написала (запинка, ищет)… которые должны только нюхать цветы…
И поняв, сам первый смущенно смеется.
– Да, да, Мур, на каждом пальце по две ноздри! Сколько всего будет ноздрей, Мур?
(Смеемся оба. Я, дальше:)
– И еще одно она мне сказала: – Марина! Знать, что вы – есть – знать, что смерти – нет.
– Ну, это конечно для вас flatteur[46 - Лестно (фр.).].
– При чем?! Просто она сказала то, что есть, то, что тогда было, ибо от меня шла такая сила жизни – и сейчас шла бы… и сейчас идет, да только никто не берет!
– Да, да, конечно я понимаю, но все-таки…
– Я непременно напишу Але, чтобы ее разыскала, потому что мне необходимо, чтобы она знала, что я никого, никого за всю жизнь так…
Мы у метро, и разговор кончен.
Маленькое тирэ – только всего в один день:
15-ое мая 1937 г., суббота. Письмо из России – авионом – тяжелое. Открываю – и первое, что вижу, совсем в конце: Сонечка Голлидэй – и уже знаю.
А вот что я – уже знаю:
«Мама! Забыла Вам написать! Я разыскала следы Сонечки Голлидэй, Вашей Сонечки – но слишком поздно. Она умерла в прошлом году от рака печени – без страданий. Не знала, что у нее рак. Она была одна из лучших чтиц в провинции и всего года два тому назад приехала в Москву. Говорят, что она была совершенно невероятно талантлива…»
А вот – вторая весть, уже распространенная: рассказ сестры одной Сонечкиной подруги – Але, Алей записанный и мне посланный:
«Она вышла замуж за директора провинциального театра, он ее очень любил и был очень преданный. Все эти годы – с 1924 г. до смерти – Соня провела в провинции, но приезжала в Москву довольно часто. Мы все ее уговаривали устроиться и работать в Москве, но она как-то не умела. Конечно, если бы Вахтангов остался в живых, Соня жила бы иначе, вся бы ее жизнь иначе пошла. Ее очень любил К-в, он вообще мягкий и добрый человек, но помочь ей никак не сумел. Кроме того, у него очень ревнивая семья, и Соне трудно было бывать у них. Тяжело… С З-ским она почти не виделась. Редко, редко. С.? Одно время он очень увлекался ею, ее даром, но его увлечения длятся недолго.
Ей надо было заниматься только читкой, но она так была связана с театром! Разбрасывалась. А в театре, конечно – труднее. В провинциальных театральных коллективах она была ну… ну как алмаз! Но ей редко попадались хорошие роли. Если бы она занималась читкой – она одна на сцене – представляете себе? Да, она была маленькая-маленькая. Она часто играла детей. Как она любила театр! А если бы Вы знали, как она играла – нет, не только в смысле игры (я-то ее мало видела, она работала главным образом в провинции) – но она была настоящим героем. Несколько лет тому назад у нее начались ужаснейшие желудочные боли. И вот она сидела за кулисами с грелкой вот тут, потом выходила на сцену, играла, а потом, чуть занавес, опять за грелку.
– Но как же тогда, когда начались эти боли, она не пошла, ее не повели к доктору?
– Она приехала в Москву и пошла к очень хорошему гомеопату. Он ей дал лекарства, и боли как рукой сняло. Потом она только к этому гомеопату и ходила. Так она прожила года четыре и все время себя хорошо чувствовала. В последний раз, когда она приехала в Москву, я нашла, что она страшно похудела, одни глаза, а все лицо – очень стало маленьким. Она очень изменилась, но этого не знала, и даже когда смотрелась в зеркало – не видела. Потом ее муж мне сказал, что она ничего не может есть. Мы позвали доктора, а он сказал, что надо позвать хирурга. Хирург ее внимательно осмотрел и спросил, нет ли у нее в семье раковых заболеваний. Она сказала, что нет. Тогда он сказал, что ей нужно лечь в больницу. Мы от нее конечно скрывали, что у нее. Но ей ужасно не хотелось в больницу, и она все время плакала и говорила: – Это ехать в гроб! – Это гроб! – Но в больнице она успокоилась и повеселела и начала строить всякие планы. Ей сделали операцию. Когда ее вскрыли, то увидели, что слишком поздно. Доктора сказали, что жить ей осталось несколько дней.
К ней все время приходили ее муж и моя сестра. Она не знала, что умирает. Она все время говорила о том, как будет жить и работать дальше. Сестра у нее была в день ее смерти, и муж, и еще кто-то. Софья Евгеньевна любила порядок, попросила сестру все прибрать в палате (она лежала в отдельной палате). Ей принесли много цветов, и сестра их поставила в воду, убрала все. Соня сказала: – А теперь я буду спать. – Повернулась, устроилась в кровати и уснула. Так во сне и умерла.
Я не помню часа и числа, когда она умерла. Меня не было в Москве. Сестра наверное помнит. Мне кажется – под вечер. Когда же это было? Летом, да. Летом. Тогда прилетели Челюскинцы.
Она так, так часто вспоминала Вашу маму, так часто рассказывала нам про нее и про вас, так часто читала нам ее стихи. Нет, она никогда, никогда ее не забывала.
…После ее смерти ее муж куда-то уехал, пропал. Где он сейчас – неизвестно.
Соню – сожгли».
«Когда прилетели Челюскинцы…» Значит – летом 1934 г. Значит – не год назад, а целых три. Но год – или три – или три дня – я ее больше не увижу, что – всегда знала, – и она никогда не узнает, как…
Нет! она навсегда – знала.
«Когда прилетели Челюскинцы» – это звучит почти как: «Когда прилетели ласточки»… явлением природы звучит, и не лучше ли, в просторе, и в простоте, и даже в простонародности своей, это неопределенное обозначение – точного часа и даты?
Ведь и начало наше с нею не – такого-то числа, а «в пору первых зеленых листиков…».
Да, меня жжет, что Сонечку – сожгли, что нет креста – написать на нем – как она просила:
И кончалось все припевом:
– Моя маленькая!
Но – вижу ее в огне, не вижу ее – в земле! В ней совсем не было той покорности и того терпения, одинаково требующихся от отжившего тела и от нежившего зерна. В ней ничего не было от зерна, все в ней было: