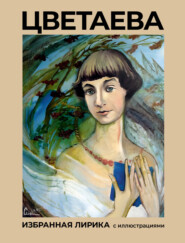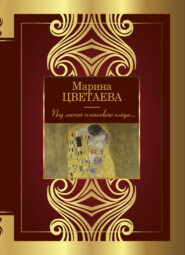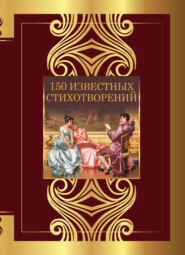По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История одного посвящения
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Оттуда (село Талицы Владимирской губернии, где я никогда не была), оттуда – всё.
Город Александров Владимирской губернии. Домок на закраине, лицом, крыльцом в овраг. Домок деревянный, бабь-ягинский. Зимой – сплошная печь (с ухватами, с шестками!), летом – сплошная дичь: зелени, прущей в окна.
Балкон (так напоминающий плетень!), на балконе на розовой скатерти – скатерке – громадное блюдо клубники и тетрадь с двумя локтями. Клубника, тетрадь, локти – мои.
1916 год. Лето. Пишу стихи к Блоку и впервые читаю Ахматову.
Перед домом, за лохмами сада, площадка. На ней солдаты учатся – стрельбе.
Вот стихи того лета:
Белое солнце и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов – за белой стеною – погост.
И на песке вереницы соломенных чучел
Под перекладинами в человеческий рост.
И, перевесившись через заборные колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд.
Старая баба – посыпанный крупною солью
Черный ломоть у калитки жует и жует...
Чем прогневили тебя эти серые хаты,
Господи! – и для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь...
Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. – Ох, и поют же
Нынче солдаты! О, господи боже ты мой!
(Александров, 3 июля 1916 года)
Так, с тем же чувством, другая женщина, полтора года спустя, с высоты собственного сердца и детской ледяной горки, провожала народ на войну.
* * *
Махали, мы – платками, нам – фуражками. Песенный вой с дымом паровоза ударяли в лицо, когда последний вагон давно уже скрылся из глаз.
Помню, меньше чем год спустя (март 1917 года), в том же Александрове, денщик – мне:
– Читал я вашу книжку, барыня. Все про аллеи да про любовь, а вы бы про нашу жизнь написали. Солдатскую. Крестьянскую.
– Но я не солдат и не крестьянин. Я пишу про что знаю, и вы пишите – про что знаете. Сами живете, сами и пишите.
Денщик Павел – из молодых, да ранний. (“Про аллеи да про любовь” – не весь ли социальный упрек Советов?)
А я тогда сказала глупость – не мужик был Некрасов, а Коробушку по сей день поют. Просто огрызнулась – отгрызнулась – на угрозу заказа. Кстати и вкратце. Социальный заказ. И социальный заказ не беда, и заказ не беда.
Беда социального заказа в том, что он всегда приказ.
В том же Александрове меня застала весть об убийстве Распутина.
Не: “два слова о Распутине”, а: в двух словах – Распутин. Есть у Гумилева стих – “Мужик” – благополучно просмотренный в свое время царской цензурой – с таким четверостишием:
В гордую нашу столицу
Входит он – Боже спаси! —
Обворожает Царицу
Необозримой Руси...
Вот, в двух словах, четырех строках, все о Распутине, Царице, всей той туче. Что в этом четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы.
Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес – крови.
В гордую нашу столицу (две славных, одна гордая: не Петербург встать не может) входит он (пешая и лешая судьба России!) – Боже спаси! – (знает: не спасет!), обворожает Царицу (не обвораживает, а именно, по-деревенски: обворожает) необозримой Руси – не знаю, как других, меня это “необозримой” (со всеми звенящими в нем зорями) пронзает – ножом.
Еще одно: эта заглавная буква Царицы. Не раболепство, нет! (писать другого с большой еще не значит быть маленьким), ибо вызвана величием страны, здесь страна дарует титул, заглавное Ц – силой вещей и верст. Четыре строки – и все дано: и судьба, и чара, и кара.
Объяснять стихи? Растворять (убивать) формулу, мнить у своего простого слова силу большую, чем у певчего – сильнее которого силы нет, описывать – песню! (Как в школе: “своими словами”, лермонтовского “Ангела”, да чтоб именно своими, без ни одного лермонтовского – и что получалось, Господи! до чего ничего не получалось, кроме несомненности: иными словами – нельзя. Что поэт хотел сказать этими стихами? Да именно то, что сказал.)
Не объясняю, а славословлю, не доказую, а указую: указательным на страницу под названием “Мужик”, стихо-творение, читателем и печатью, как тогда цензурой и по той же причине – незамеченное. А если есть в стихах судьба – так именно в этих, чара – так именно в этих. История, на которой и “сверху” (правительство) и “сбоку” (попутчики) так настаивают сейчас в Советской литературе – так именно в этих. Ведь это и Гумилева судьба в тот день и час входила – в сапогах или валенках (красных сибирских “пимах”), пешая и неслышная по пыли или снегу.
Надпиши “Распутин”, все бы знали (наизусть), а “Мужик” – ну, еще один мужик. Кстати, заметила: лучшие поэты (особенно немцы: вообще-лучшие из поэтов) часто, беря эпиграф, не проставляют откуда, живописуя – не проставляют – кого, чтобы, помимо исконной сокровенности любви и говорения вещи самой за себя, дать лучшему читателю эту – по себе знаю! – несравненную радость: в сокрытии – открытия.
* * *
Дорогой Гумилев, породивший своими теориями стихосложения ряд разлагающихся стихотворцев, своими стихами о тропиках – ряд тропических последователей —
Дорогой Гумилев, бессмертные попугаи которого с маниакальной, то есть неразумной, то есть именно попугайной неизменностью, повторяют ваши – двадцать лет назад! – молодого “мэтра” сентенции, так бесследно разлетевшиеся под колесами вашего же “Трамвая” —
Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет, услышьте мою, от лица всей Поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам – как писать стихи, историкам – как писать историю.
Чувство Истории – только чувство Судьбы.
Не “мэтр” был Гумилев, а мастер: боговдохновенный и в этих стихах уже безымянный мастер, скошенный в самое утро своего мастерства-ученичества, до которого в “Костре” и окружающем костре России так чудесно – древесно! – дорос.
* * *
Город Александров. 1916 год. Лето. Наискосок от дома, под гору, кладбище. Любимая прогулка детей, трехлетних Али и Андрюши. Точка притяжения – проваленный склеп с из земли глядящими иконами.
– Хочу в ту яму, где Боженька живет!
Любимая детей и нелюбимая – Осипа Мандельштама. От этого склепа так скоро из Александрова и уехал. (Хотел – “всю жизнь!”)
– Зачем вы меня сюда привели? Мне страшно. Мандельштам – мой гость, но я и сама гость. Гощу у сестры, уехавшей в Москву, пасу ее сына. Муж сестры весь день на службе. семья – я, Аля, Андрюша, нянька Надя и Осип Мандельштам.
Мандельштаму в Александрове, после первых восторгов, не можется. Петербуржец и крымец – к моим косогорам не привык. Слишком много коров (дважды в день мимо-идущих, мимо-мычащих), слишком много крестов (слишком вечно стоящих). Корова может забодать. Мертвец встать. – Взбеситься. – Присниться. – На кладбище я, по его словам, “рассеянная какая-то”, забываю о нем, Мандельштаме, и думаю о покойниках, читаю надписи (вместо стихов!), высчитываю, сколько лет – лежащим и над ними растущим; словом: гляжу либо вверх, либо вниз... но неизменно от. Отвлекаюсь.
– Хорошо лежать!
– Совсем не хорошо: вы будете лежать, а я по вас ходить.