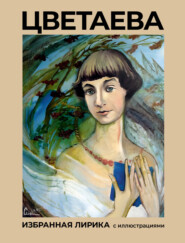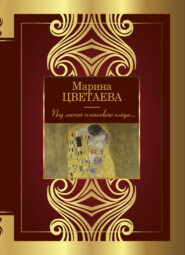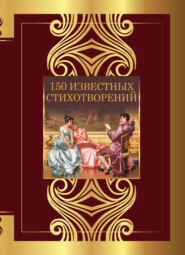По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Проза (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но что мне делать, когда не это – нужно?
– Не нужно самому – отдайте в хорошие руки!
– Но – где они?
– А я вам скажу: из вашего же обвинительного акта – скажу: эти руки – в Осьмнадцатом веке, руки молодого англичанина-меланхолика и мецената – руки, на которых бы он ее носил – в те часы, когда бы не стоял перед ней на коленях. Чего ей не хватает? Только двух веков назад и двух любящих, могущих рук – и только собственного розового театра – раковины. Разве вы не видите, что это – дитя-актриса, актриса в золотой карете, актриса-птица? Malibran, Аделина Патти, oiseau-mouche[202 - Колибри (фр.).], а совсем не студийка вашей второй или третьей студии? Что ее обожать нужно, а не обижать?
– Да ее никто и не обижает – сама обидит! Вы не знаете, какая она зубастая, ежистая, неудобная, непортативная какая-то… Может быть – прекрасная душа, но – ужасный характер. Марина Ивановна, не сердитесь, но вы все-таки ее – не знаете, вы ее знаете поэтически, человечески, у себя, с собой, а есть профессиональная жизнь, товарищеская. Я не скажу, чтобы она была плохим товарищем, она просто – никакой товарищ, сама по себе. Знаете станиславское «вхождение в круг»? Так наша с вами Сонечка – сплошное выхождение из круга. Или, что то же – сплошной центр.
И – удивительно злой язык! А чуть над ней пошутить – плачет. Плачет и тут же – что-нибудь такое уж ядовитое… Иногда не знаешь: ребенок? женщина? черт? Потому что она может быть настоящим чертом!
(На секундочку меня озарило: так о нелюбимых не говорят! так говорят о любимых: о тщетно, о прежде любимых! Но никто о ней не говорил – иначе, и во всех она осталась – загвоздкой: не любили – с загвоздкой.)
– Марина! У меня сегодня ужасное горе!
– Опять наш с вами ангел?
– Нет, на этот раз не он, а как раз наоборот! У нас решили ставить «Четыре Черта», и мне не дали ни одного, даже четвертого! даже самого маленького! самого пятого!
(Тут-то она и сказала свое незабвенное: – И у меня были такие большие слезы – крупнее глаз!)
Да, ее считали злой. Не высказывали мне этого прямо, потому что меня считали – еще злей, но в ответ на мое умиление ее добротой – молчали – или мычали. Я никогда не видела более простой, явной, вопиющей доброты всего существа. Она все отдавала, все понимала, всех жалела. А – «злоба»? – как у нас с Ходасевичем, иногда только вопрос, верней ответ, еще верней рипост языковой одаренности, языковая сдача. Либо рипост – кошачьей лапы.
Petite fille mod?le – et Bon petit Diable. Toute ma petite Сонечка – immense – tenue dans la C-tesse de Segur. On n'est pas compatriotes pour rien![203 - Примерная маленькая девочка и милый чертенок. Вся моя маленькая Сонечка – безмерно – похожа на графиню де Сегюр. Недаром они соотечественницы! (фр.).]
(Графиня де Сегюр – большая писательница, имевшая глупость вообразить себя бабушкой и писать только для детей. Прошу обратить внимание на ее сказки «Nouveaux Contes de Fees» (Bibliotheque Rose)[204 - «Волшебные сказки» (Розовая библиотека) (фр.).] – лучшее и наименее известное из всего ею написанного – сказки совершенно исключительные, потому что совершенно единоличные (без ни единого заимствования – хотя бы из народных сказок). Сказки, которым я верна уже четвертый десяток, сказки, которые я уже здесь в Париже четырежды дарила и трижды сохранила, ибо увидеть их в витрине для меня – неизбежно – купить).
Два завершительных слова о Вахтанге Левановиче Мчеделове – чтобы не было несправедливости. Он глубоко любил стихи и был мне настоящим другом и настоящей человечности человеком, и я бесконечно предпочитала его блистательному Вахтангову (Сонечкиному «Евгению Багратионычу»), от которого на меня веяло и даже дуло – холодом головы: того, что обыватель называет «фантазией». Холодом и бесплодием самого слова «фантазия». (Театрально я, может быть, ошибаюсь, человечески – чет.) И если Вахтанг Леванович чего-нибудь для моей Сонечки не смог, потому что это что было все, то есть полное его самоуничтожение, всеуничтожение, небытие, любовь. То есть, общественно вопиющая несправедливость. Вахтанг Леванович бесспорно был лучше меня, но я Сонечку любила больше. Вахтанг Леванович больше любил Театр, я больше любила Сонечку. А почему не дал ей «хотя бы самого маленького, самого пятого» – да может быть и черти то были не настоящие, а аллегорические, то есть не черти вовсе? (Сомнительно, чтобы на сцене, четыре действия сряду – четыре хвостатых.) Я этой пьесы не знаю, мнится мне – из циркового романа Германа Банга «Четыре черта». Мне только было обидно за слово. И – слезы.
Нет, мою Сонечку не любили. Женщины – за красоту, мужчины – за ум, актеры (m?les et femelles)[205 - Самцы и самки (фр.).] – за дар, и те, и другие, и третьи – за особость: опасность особости.
Toutes les femmes la trouvent laide,
Mais tous les hommes en sont fous…[206 - Все женщины находили ее безобразной,Но все мужчины были от нее без ума… (фр.)]
Первое – да (то есть как в стихах, как раз наоборот), второе – нет. Ее в самый расцвет ее красоты и дара и жара – ни один не любил, отзывались о ней с усмешкой… и опаской.
Для мужчин она была опасный… ребенок… Существо, а не женщина. Они не знали, как с ней… Не умели… (Ум у Сонечки никогда не ложился спать. «Спи, глазок, спи, другой…», а третий – не спал.) Они все боялись, что она (когда слезами плачет!) над ними – смеется. Когда я вспоминаю, кого моей Сонечке предпочитали, какую фальшь, какую подделку, какую лже-женственность – от лже-Беатрич до лже-Кармен (не забудем, что мы в самом сердце фальши: театре).
К слову сказать, она гораздо больше была испаночка, чем англичаночка, и если я сказала, что в ней ничего не было национального, то чтобы оберечь ее от первого в ее случае – напрашивающегося – малороссийского-национального, самого типичного-национального. Испански же женское лицо – самое ненациональное из национальных, представляющее наибольший простор для человеческого лица в его общности и единственности: от портрета – до аллегории, испанское женское лицо есть человеческое женское лицо во всех его возможностях страдания и страсти, есть – Сонечкино лицо.
Только – географическая испаночка, не оперная. Уличная испаночка, работница на сигарной фабрике. Заверти ее волчком посреди севильской площади – и станет – своя. Недаром я тогда же, ни о чем этом не думая, о чем сейчас пишу, сгоряча и сразу назвала ее в одних из первых стихов к ней: – Маленькая сигарера! И даже – ближе: Консуэла – или Кончита – Конча. Concha, – ведь это почти что Сонечка! – О, да, Марина! Ой, нет, Марина! Конча, – ведь это: сейчас кончится, только еще короче!
И недаром первое, что я о ней услышала – Инфанта. (От инфанты до сигареры – испанское женское лицо есть самое а-классовое лицо.)
Теперь, когда к нам Испания ближе, Испания придвинулась, а лже-Испания отодвинулась, когда мы каждый день видим мертвые и живые женские и детские лица, мы и на Сонечкино можем напасть: только искать надо – среди четырнадцатилетних. С поправкой – неповторимости.
Еще одно скажу: такие личики иногда расцветают в мещанстве. В русском мещанстве. Расцветали в русском мещанстве – в тургеневские времена. (Весь последний Тургенев – под их ударом.) Кисейная занавеска и за ней – огромные черные глаза. («В кого уродилась? Вся родня – белая».) Такие личики бывали у младших сестер – седьмой после шести, последней. «У почтмейстера шесть дочерей, седьмая – красавица…»
На слободках… На задворках… На окраинах… Там, где концы с концами – расходятся.
Этому личику шли бы – сережки.
И еще – орешки. Сонечка до страсти любила орехи и больше всего, из всего продовольственно-выбывшего, скучала по ним. И в ее смехе, и в зубах, и в самой речи было что-то от разгрызаемых и раскатывающихся орехов, точно целые белкины закрома покатились. – «Такие зеленые и если зубами – кислые, это самое кислое, что есть: кислей лимона! кислей зеленого яблока! И вдруг – сам орех: кремовый, снизу чуть загорелый, и скок! пополам, точно ножом разрезали – ядро! такое круглое, такое крепкое, это самое крепкое, что есть! две половинки: одна – вам, другая – мне. Но я не только лесные люблю (а их брать, Марина! когда наверху – целая гроздь, и еще и еще, и никак не можешь дотянуться, гнешь, гнешь ветку и – вдруг! – вырвалась, и опять вверху качается – в синеве – такой синей, что глаза горят! такие зеленые, что глаза болят! Ведь они – как звезды, Марина! Шелуха – как лучи!)… я и городские люблю, и грецкие, и американские, и кедровые – такие чудные негрские малютки!.. целый мешок! и читать „Войну и мир“, я Мир – люблю, Марина, а Войну – нет, всегда – нечаянно – целые страницы пропускаю. Потому что это мужское, Марина, не наше…»
…От раскатываемых орехов, и от ручья по камням – и струек по камням и камней под струйками – и от лепета листвы («ветер листья на березе перелистывает»…), и от тихо сжимаемых в горсти жемчугов – и от зеленоватых ландышевых – и даже от слез градом! – всем, что в природе есть круглого и движущегося, всем, что в природе смеется, чем природа смеется – смеялась Сонечка, но, так как всем сразу: и листвою, и водою, и горошинами, и орешинами, и еще – белыми зубами и черными глазами, то получалось несравненно-богаче, чем в природе…
– словом:
Все бы я слушал этот лепет.
Все б эти ножки целовал…
Мужчины ее не любили. Женщины – тоже. Дети любили. Старики. Слуги. Животные. Совсем юные девушки.
Все, все ей было дано, чтобы быть без ума, без души, на коленях – любимой: и дар, и жар, и красота, и ум, и неизъяснимая прелесть, и безымянная слава – лучше имени («та, что – „Белые ночи…“) и все это в ее руках было – прах, потому это она сама хотела – сама любить. Сама любила.
На Сонечку нужен был поэт. Большой поэт, то есть: такой же большой человек, как поэт. Такого она не встретила. А может, один из первых двухсот добровольцев в Новочеркасске 18-го года. Любой из двухсот. Но их в Москве Девятнадцатого года – не было. Их уже – нигде не было.
– О, Марина! Как я их любила! Как я о них тогда плакала! Как за них молилась! Вы знаете, Марина, когда я люблю – я ничего не боюсь, земли под собой не чувствую! Мне все: – Куда ты! убьют! там – самая пальба!
И я каждый день к ним приходила, приносила им обед в корзиночке, потому что, ведь, есть – надо?
И сквозь всех красногвардейцев проходила. – Ты куда идешь, красавица? – Больной маме обед несу, она у меня за Москвой-рекой осталась. – Знаем мы эту больную маму! С усами и с бородой! – Ой, нет, я усатых-бородатых не люблю: усатый – кот, а бородатый – козел! Я, правда, к маме! (И уже плачу.) – Ну ежели правда– к маме, проходи, проходи, да только в оба гляди, а то неровен час – убьют, наша, что ли, али юнкерская пуля – и останется старая мама без обеду.
Я всегда с особенным чувством гляжу на Храм Христа Спасителя, ведь я туда им обед носила, моим голубчикам.
– Марина! Я иногда ужасно вру! И сама – верю. Вот вчера, я в очереди стояла, разговорились мы с одним солдатом – хорошим: того же ждет, что и мы – сначала о ценах, потом о более важном, сериозном (Ее произношение). – Какая вы, барышня, молоденькая будете, а разумная. Обо всем-то знаете, обо всем правду знаете… – Да я и не барышня совсем! Мой муж идет с Колчаком! И рассказываю, и насказываю, и сама слезами плачу – оттого что я его так люблю и за него боюсь – и оттого что я знаю, что он не дойдет до Москвы – оттого что у меня нет мужа, который идет с Колчаком…
Сонечка обожала моих детей: шестилетнюю Алю и двухлетнюю Ирину. Первое, как войдет – сразу вынет Ирину из ее решетчатой кровати.
– Ну как, моя девочка? Узнала свою Галлиду? Как это ты про меня поешь? Галли-да, Галли-да! Да?
Ирину на колени. Алю под крыло – правую, свободную от Ирины руку. (– «Я всегда ношу детей на левой, вы тоже? Чтобы правой защищать. И – обнимать».) Так и вижу их втроем: застывшую в недвижном блаженстве группу трех голов: Иринину, крутолобую, чуть было не сказала – круторогую, с крутыми крупными бараньими ярко-золотыми завитками над выступом лба, Алину, бледно-золотую, куполком, рыцаренка, и между ними – Сонечкину, гладковьющуюся, каштановую, то застывшую в блаженстве совершенного объятья, то ныряющую – от одной к другой. И – смешно – взрослая Сонечкина казалась только ненамного больше этих детских:
Мать, что тебя породила,
Раннею розой была:
Она лепесток обронила —
Когда тебя родила…
(Только когда я вспоминаю Сонечку, я понимаю все эти сравнения женщины с цветами, глаз с звездами, губ с лепестками и так далее – в глубь времен.
Не понимаю, а заново создаю.)
…Так они у меня и остались – группой. Точно это тогда уже был – снимок.
Когда же Ирина спала и Сонечка сидела с уже-Алей на коленях, это было совершенное видение Флоренсы с Домби-братом: Диккенс бы обмер, увидев обеих!
Сонечка с моими детьми была самое совершенное видение материнства, девического материнства, материнского девичества: девушки, нет – девочки-Богородицы:
Над первенцом – Богородицы:
– Не нужно самому – отдайте в хорошие руки!
– Но – где они?
– А я вам скажу: из вашего же обвинительного акта – скажу: эти руки – в Осьмнадцатом веке, руки молодого англичанина-меланхолика и мецената – руки, на которых бы он ее носил – в те часы, когда бы не стоял перед ней на коленях. Чего ей не хватает? Только двух веков назад и двух любящих, могущих рук – и только собственного розового театра – раковины. Разве вы не видите, что это – дитя-актриса, актриса в золотой карете, актриса-птица? Malibran, Аделина Патти, oiseau-mouche[202 - Колибри (фр.).], а совсем не студийка вашей второй или третьей студии? Что ее обожать нужно, а не обижать?
– Да ее никто и не обижает – сама обидит! Вы не знаете, какая она зубастая, ежистая, неудобная, непортативная какая-то… Может быть – прекрасная душа, но – ужасный характер. Марина Ивановна, не сердитесь, но вы все-таки ее – не знаете, вы ее знаете поэтически, человечески, у себя, с собой, а есть профессиональная жизнь, товарищеская. Я не скажу, чтобы она была плохим товарищем, она просто – никакой товарищ, сама по себе. Знаете станиславское «вхождение в круг»? Так наша с вами Сонечка – сплошное выхождение из круга. Или, что то же – сплошной центр.
И – удивительно злой язык! А чуть над ней пошутить – плачет. Плачет и тут же – что-нибудь такое уж ядовитое… Иногда не знаешь: ребенок? женщина? черт? Потому что она может быть настоящим чертом!
(На секундочку меня озарило: так о нелюбимых не говорят! так говорят о любимых: о тщетно, о прежде любимых! Но никто о ней не говорил – иначе, и во всех она осталась – загвоздкой: не любили – с загвоздкой.)
– Марина! У меня сегодня ужасное горе!
– Опять наш с вами ангел?
– Нет, на этот раз не он, а как раз наоборот! У нас решили ставить «Четыре Черта», и мне не дали ни одного, даже четвертого! даже самого маленького! самого пятого!
(Тут-то она и сказала свое незабвенное: – И у меня были такие большие слезы – крупнее глаз!)
Да, ее считали злой. Не высказывали мне этого прямо, потому что меня считали – еще злей, но в ответ на мое умиление ее добротой – молчали – или мычали. Я никогда не видела более простой, явной, вопиющей доброты всего существа. Она все отдавала, все понимала, всех жалела. А – «злоба»? – как у нас с Ходасевичем, иногда только вопрос, верней ответ, еще верней рипост языковой одаренности, языковая сдача. Либо рипост – кошачьей лапы.
Petite fille mod?le – et Bon petit Diable. Toute ma petite Сонечка – immense – tenue dans la C-tesse de Segur. On n'est pas compatriotes pour rien![203 - Примерная маленькая девочка и милый чертенок. Вся моя маленькая Сонечка – безмерно – похожа на графиню де Сегюр. Недаром они соотечественницы! (фр.).]
(Графиня де Сегюр – большая писательница, имевшая глупость вообразить себя бабушкой и писать только для детей. Прошу обратить внимание на ее сказки «Nouveaux Contes de Fees» (Bibliotheque Rose)[204 - «Волшебные сказки» (Розовая библиотека) (фр.).] – лучшее и наименее известное из всего ею написанного – сказки совершенно исключительные, потому что совершенно единоличные (без ни единого заимствования – хотя бы из народных сказок). Сказки, которым я верна уже четвертый десяток, сказки, которые я уже здесь в Париже четырежды дарила и трижды сохранила, ибо увидеть их в витрине для меня – неизбежно – купить).
Два завершительных слова о Вахтанге Левановиче Мчеделове – чтобы не было несправедливости. Он глубоко любил стихи и был мне настоящим другом и настоящей человечности человеком, и я бесконечно предпочитала его блистательному Вахтангову (Сонечкиному «Евгению Багратионычу»), от которого на меня веяло и даже дуло – холодом головы: того, что обыватель называет «фантазией». Холодом и бесплодием самого слова «фантазия». (Театрально я, может быть, ошибаюсь, человечески – чет.) И если Вахтанг Леванович чего-нибудь для моей Сонечки не смог, потому что это что было все, то есть полное его самоуничтожение, всеуничтожение, небытие, любовь. То есть, общественно вопиющая несправедливость. Вахтанг Леванович бесспорно был лучше меня, но я Сонечку любила больше. Вахтанг Леванович больше любил Театр, я больше любила Сонечку. А почему не дал ей «хотя бы самого маленького, самого пятого» – да может быть и черти то были не настоящие, а аллегорические, то есть не черти вовсе? (Сомнительно, чтобы на сцене, четыре действия сряду – четыре хвостатых.) Я этой пьесы не знаю, мнится мне – из циркового романа Германа Банга «Четыре черта». Мне только было обидно за слово. И – слезы.
Нет, мою Сонечку не любили. Женщины – за красоту, мужчины – за ум, актеры (m?les et femelles)[205 - Самцы и самки (фр.).] – за дар, и те, и другие, и третьи – за особость: опасность особости.
Toutes les femmes la trouvent laide,
Mais tous les hommes en sont fous…[206 - Все женщины находили ее безобразной,Но все мужчины были от нее без ума… (фр.)]
Первое – да (то есть как в стихах, как раз наоборот), второе – нет. Ее в самый расцвет ее красоты и дара и жара – ни один не любил, отзывались о ней с усмешкой… и опаской.
Для мужчин она была опасный… ребенок… Существо, а не женщина. Они не знали, как с ней… Не умели… (Ум у Сонечки никогда не ложился спать. «Спи, глазок, спи, другой…», а третий – не спал.) Они все боялись, что она (когда слезами плачет!) над ними – смеется. Когда я вспоминаю, кого моей Сонечке предпочитали, какую фальшь, какую подделку, какую лже-женственность – от лже-Беатрич до лже-Кармен (не забудем, что мы в самом сердце фальши: театре).
К слову сказать, она гораздо больше была испаночка, чем англичаночка, и если я сказала, что в ней ничего не было национального, то чтобы оберечь ее от первого в ее случае – напрашивающегося – малороссийского-национального, самого типичного-национального. Испански же женское лицо – самое ненациональное из национальных, представляющее наибольший простор для человеческого лица в его общности и единственности: от портрета – до аллегории, испанское женское лицо есть человеческое женское лицо во всех его возможностях страдания и страсти, есть – Сонечкино лицо.
Только – географическая испаночка, не оперная. Уличная испаночка, работница на сигарной фабрике. Заверти ее волчком посреди севильской площади – и станет – своя. Недаром я тогда же, ни о чем этом не думая, о чем сейчас пишу, сгоряча и сразу назвала ее в одних из первых стихов к ней: – Маленькая сигарера! И даже – ближе: Консуэла – или Кончита – Конча. Concha, – ведь это почти что Сонечка! – О, да, Марина! Ой, нет, Марина! Конча, – ведь это: сейчас кончится, только еще короче!
И недаром первое, что я о ней услышала – Инфанта. (От инфанты до сигареры – испанское женское лицо есть самое а-классовое лицо.)
Теперь, когда к нам Испания ближе, Испания придвинулась, а лже-Испания отодвинулась, когда мы каждый день видим мертвые и живые женские и детские лица, мы и на Сонечкино можем напасть: только искать надо – среди четырнадцатилетних. С поправкой – неповторимости.
Еще одно скажу: такие личики иногда расцветают в мещанстве. В русском мещанстве. Расцветали в русском мещанстве – в тургеневские времена. (Весь последний Тургенев – под их ударом.) Кисейная занавеска и за ней – огромные черные глаза. («В кого уродилась? Вся родня – белая».) Такие личики бывали у младших сестер – седьмой после шести, последней. «У почтмейстера шесть дочерей, седьмая – красавица…»
На слободках… На задворках… На окраинах… Там, где концы с концами – расходятся.
Этому личику шли бы – сережки.
И еще – орешки. Сонечка до страсти любила орехи и больше всего, из всего продовольственно-выбывшего, скучала по ним. И в ее смехе, и в зубах, и в самой речи было что-то от разгрызаемых и раскатывающихся орехов, точно целые белкины закрома покатились. – «Такие зеленые и если зубами – кислые, это самое кислое, что есть: кислей лимона! кислей зеленого яблока! И вдруг – сам орех: кремовый, снизу чуть загорелый, и скок! пополам, точно ножом разрезали – ядро! такое круглое, такое крепкое, это самое крепкое, что есть! две половинки: одна – вам, другая – мне. Но я не только лесные люблю (а их брать, Марина! когда наверху – целая гроздь, и еще и еще, и никак не можешь дотянуться, гнешь, гнешь ветку и – вдруг! – вырвалась, и опять вверху качается – в синеве – такой синей, что глаза горят! такие зеленые, что глаза болят! Ведь они – как звезды, Марина! Шелуха – как лучи!)… я и городские люблю, и грецкие, и американские, и кедровые – такие чудные негрские малютки!.. целый мешок! и читать „Войну и мир“, я Мир – люблю, Марина, а Войну – нет, всегда – нечаянно – целые страницы пропускаю. Потому что это мужское, Марина, не наше…»
…От раскатываемых орехов, и от ручья по камням – и струек по камням и камней под струйками – и от лепета листвы («ветер листья на березе перелистывает»…), и от тихо сжимаемых в горсти жемчугов – и от зеленоватых ландышевых – и даже от слез градом! – всем, что в природе есть круглого и движущегося, всем, что в природе смеется, чем природа смеется – смеялась Сонечка, но, так как всем сразу: и листвою, и водою, и горошинами, и орешинами, и еще – белыми зубами и черными глазами, то получалось несравненно-богаче, чем в природе…
– словом:
Все бы я слушал этот лепет.
Все б эти ножки целовал…
Мужчины ее не любили. Женщины – тоже. Дети любили. Старики. Слуги. Животные. Совсем юные девушки.
Все, все ей было дано, чтобы быть без ума, без души, на коленях – любимой: и дар, и жар, и красота, и ум, и неизъяснимая прелесть, и безымянная слава – лучше имени («та, что – „Белые ночи…“) и все это в ее руках было – прах, потому это она сама хотела – сама любить. Сама любила.
На Сонечку нужен был поэт. Большой поэт, то есть: такой же большой человек, как поэт. Такого она не встретила. А может, один из первых двухсот добровольцев в Новочеркасске 18-го года. Любой из двухсот. Но их в Москве Девятнадцатого года – не было. Их уже – нигде не было.
– О, Марина! Как я их любила! Как я о них тогда плакала! Как за них молилась! Вы знаете, Марина, когда я люблю – я ничего не боюсь, земли под собой не чувствую! Мне все: – Куда ты! убьют! там – самая пальба!
И я каждый день к ним приходила, приносила им обед в корзиночке, потому что, ведь, есть – надо?
И сквозь всех красногвардейцев проходила. – Ты куда идешь, красавица? – Больной маме обед несу, она у меня за Москвой-рекой осталась. – Знаем мы эту больную маму! С усами и с бородой! – Ой, нет, я усатых-бородатых не люблю: усатый – кот, а бородатый – козел! Я, правда, к маме! (И уже плачу.) – Ну ежели правда– к маме, проходи, проходи, да только в оба гляди, а то неровен час – убьют, наша, что ли, али юнкерская пуля – и останется старая мама без обеду.
Я всегда с особенным чувством гляжу на Храм Христа Спасителя, ведь я туда им обед носила, моим голубчикам.
– Марина! Я иногда ужасно вру! И сама – верю. Вот вчера, я в очереди стояла, разговорились мы с одним солдатом – хорошим: того же ждет, что и мы – сначала о ценах, потом о более важном, сериозном (Ее произношение). – Какая вы, барышня, молоденькая будете, а разумная. Обо всем-то знаете, обо всем правду знаете… – Да я и не барышня совсем! Мой муж идет с Колчаком! И рассказываю, и насказываю, и сама слезами плачу – оттого что я его так люблю и за него боюсь – и оттого что я знаю, что он не дойдет до Москвы – оттого что у меня нет мужа, который идет с Колчаком…
Сонечка обожала моих детей: шестилетнюю Алю и двухлетнюю Ирину. Первое, как войдет – сразу вынет Ирину из ее решетчатой кровати.
– Ну как, моя девочка? Узнала свою Галлиду? Как это ты про меня поешь? Галли-да, Галли-да! Да?
Ирину на колени. Алю под крыло – правую, свободную от Ирины руку. (– «Я всегда ношу детей на левой, вы тоже? Чтобы правой защищать. И – обнимать».) Так и вижу их втроем: застывшую в недвижном блаженстве группу трех голов: Иринину, крутолобую, чуть было не сказала – круторогую, с крутыми крупными бараньими ярко-золотыми завитками над выступом лба, Алину, бледно-золотую, куполком, рыцаренка, и между ними – Сонечкину, гладковьющуюся, каштановую, то застывшую в блаженстве совершенного объятья, то ныряющую – от одной к другой. И – смешно – взрослая Сонечкина казалась только ненамного больше этих детских:
Мать, что тебя породила,
Раннею розой была:
Она лепесток обронила —
Когда тебя родила…
(Только когда я вспоминаю Сонечку, я понимаю все эти сравнения женщины с цветами, глаз с звездами, губ с лепестками и так далее – в глубь времен.
Не понимаю, а заново создаю.)
…Так они у меня и остались – группой. Точно это тогда уже был – снимок.
Когда же Ирина спала и Сонечка сидела с уже-Алей на коленях, это было совершенное видение Флоренсы с Домби-братом: Диккенс бы обмер, увидев обеих!
Сонечка с моими детьми была самое совершенное видение материнства, девического материнства, материнского девичества: девушки, нет – девочки-Богородицы:
Над первенцом – Богородицы: