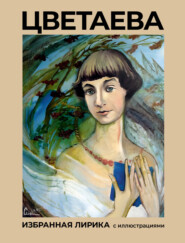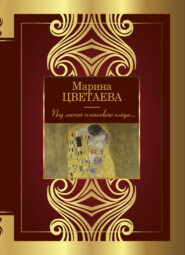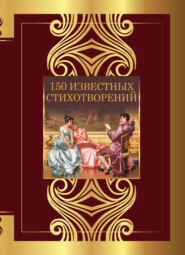По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Проза (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А в раю, Софья Евгеньевна, – тихий голос Володи, – нет ревности, и все друг другу простили, потому что увидели, что и прощать-то нечего было, потому что – вины не было… И нет местничества: все на своем. А теперь я, Марина Ивановна, пойду.
Сонечка в слезах: – Нет, нет, Володя, ни за что, разве можно уходить – после такой музыки, одному – после такой музыки, от Марины – после такой музыки… (Пауза, еле слышно) – От меня…
…Я в жизни себе не прощу – своего нынешнего поведения! Потому что я ведь думала, что вы – пустой красавец – и туда же к Марине, чтобы она вам писала стихи, а вы бы потом хвастались!
– Марина Ивановна мне не написала ни одной строки. Правда, Марина Ивановна?
– Правда, Володечка.
– Марина! Значит, вы его – не любите?
Я, полушутя: – Так люблю, что и сказать не могу. Даже в стихах – не могу.
– Меньше или больше, чем Юру?
(Володя: – Софья Евгеньевна!! Она: – Забудьте, что вы в комнате: мне это нужно знать – сейчас.)
Я: – Володя мой друг на всю жизнь, а Ю. А. ни часу не был мне другом. Володю я с первой минуты назвала Володей, а Ю. А. – ни разу Юрой, разве что в кавычках и заочно.
Сонечка, сосредоточенно, даже страдальчески:
– Но – больше или меньше? Больше или меньше?
– Володю – несравненно. – Точка.
– А теперь, Марина Ивановна, я решительно пойду.
И – пошло. Так же как раньше они никогда у меня не встречались, так теперь стали встречаться – всегда, может быть оттого, что раньше Володя бывал реже, а теперь стал приходить через вечер, а под конец каждый вечер – ибо дело явно шло к концу, еще не названному, но знаемому.
Отъезды начались – с Ирины.
– Дайте мне, барыня, Ирину с собой в деревню – вишь она какая чахлая. Да разве раздобреешь – с советского молочка? (Так в 1919 г. в Москве сами дети прозвали – воду.) А у нас молоко – деревенское, и при царе – белое, и без царя – белое, и картошка живая, не мороженая, и хлеб без известки. И вернется к вам Ирина – во-о какая!
Кухня. Солнце во все два окна. Худая, как жердь, владимирская Надя с принаряженной Ириной на руках. Перед ними – Сонечка, прибежавшая проститься.
– Ну, Ирина, расти большая, красивая, счастливая!
Ирина с лукавой улыбкой: – Галли-да! Галли-да!
– Чтобы щечки твои стали розовые, чтобы глазки твои – никогда не плакали, чтобы ручки что взяли – не отпускали, чтобы ножки – бегали… никогда не падали…
Ирина, еще никогда не видавшая слез, во всяком случае – таких, бесцеремонно ловит их у Сонечки на глазах.
– Мок-рый… мок-рый… Газ-ки мок-рый…
– Да, мокрые, потому что это – слезы… Слезы. Но не повторяй, пожалуйста, этого тебе знать не надо.
– Барышня Софья Евгеньевна, нам на вокзал пора, ведь мы с Ириной – пешие, за час не дойдем.
– Сейчас, няня, сейчас. Что бы ей еще такого сказать, чтобы она поняла? Да, няня, пусть она непременно молится Богу, каждое утро и каждый вечер, – просто так: – Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, Алю, няню…
Ирина: – Галли-да! Галли-да!
– И Галлиду, потому что она ведь меня никогда Соней не звала, а я не хочу, чтобы она меня забыла, я ведь в жизни так не любила ребенка, как тебя. – И Галлиду (Бог уже! будет знать!) – Няня, не забудете?
– Что вы, Софья Евгеньевна, да Ирина сама напомнит, еще все уши мне Галлидой прожужжит…
Ирина, что-то понимая, с невероятным темпераментом: – Галлида, Галлида, Галлида, Галлида, Галлида… (и уже явно дразнясь:) Даллига, Даллига, Даллига…
– Бог с тобой, Ирина! до Бабы-Яги договоришься! – А говорите – забудет! Теперь всю дорогу не уймется. Ну, прощайтесь, Софья Евгеньевна, а то вправду опоздаем!
– Ну, прощай, моя девочка! Ручку… Другую ручку… Ножку… Другую ножку… Глазок… Другой глазок… Лобик – и всё, потому что в губы целовать нельзя, и вы, няня, не давайте, скажите – барыня не велела – и всё.
Ну, прощай моя девочка! (Трижды крестит.) Я за тебя тоже буду молиться. Поправляйся, возвращайся здоровая, красивая, румяная! Няня, берегите!
Тут же скажу, что Ирина свою Галлиду, Галлида свою Ирину больше никогда не увидела. Это было их последнее свидание, 7-го июня 1919 года.
Но около пяти месяцев спустя Ирина, оставленная Сонечкой двух лет трех месяцев, свою Галлиду еще помнила, как видно из Алиной записи – в ноябре 1919 года.
«У нас есть одна знакомая, которой нет в Москве. Ее зовут Софьей Евгеньевной Голлидэй. Мы в глаза ее называем Сонечка, а за глаза Сонечка Голлидэй. Ирина ее взлюбила. Сонечка уезжала еще и раньше, а Ирина все помнила ее, и теперь еще говорит и поет: Галлида! Галлида!»
– Володечка, вы никогда не были в Марининой кухне?
– Нет, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, на Пасху.
– Господи, какой вы бедный! И никогда не видели Ирины?
– Не видел, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, тогда же – но она спала.
– Господи, как можно дружить с женщиной и не знать, сколько у ее ребенка зубов? Вы ведь не знаете, сколько у Ирины зубов?
– Не знаю, Софья Евгеньевна.
– Значит, это одна умственность, вы дружите с одной головой Марины. – Господи, у кого это была одна голова?!
– У нас с вами, Софья Евгеньевна.
– Дурак! Я говорю: одна голова, без ничего… Ах, это у Руслана и Людмилы! – Как мне бы от такой дружбы было холодно! Ледяной Дом какой-то… О, насколько я счастливее, Володя! У меня и нижняя Марина, хрустальная, фонарная, под синим светом как под водою, потому что ведь это – морское дно, а все гости – чудовища! – и верхняя Марина, над плитой, над пшеном, с топором! с пропиленным коричневым подолом, который – вот – целую! – уважаемая, обожаемая! И ведь только эти две – Марина, эти все – Марина, потому что я вас, Марина, не вижу – только в замке, только на башне…
– В свободное от башни время я пасла бы баранов…
Володя:
– И слушали бы – голоса.
По Сонечкиному началу с Володей я отдаленно стала понимать, почему мужчины ее не любят. Всякое недопонимание, всякое противоречие, даже всякое хотя бы самое скромное собственное мнение неизменно вызывало у нее: дурак! Точно этот дурак у нее уже был заряжен и только ждал сигнала, которым служило – все. С ней нужно было терпение, незамечание – Володины терпение и незамечание.
Я всегда провожала ее вправо, в сторону Поварской, уходящая Сонечка для меня была светающая Поварская, белая улица без лавок, похожая на реку, – точно никакого влево у моего дома не было.
Сонечка в слезах: – Нет, нет, Володя, ни за что, разве можно уходить – после такой музыки, одному – после такой музыки, от Марины – после такой музыки… (Пауза, еле слышно) – От меня…
…Я в жизни себе не прощу – своего нынешнего поведения! Потому что я ведь думала, что вы – пустой красавец – и туда же к Марине, чтобы она вам писала стихи, а вы бы потом хвастались!
– Марина Ивановна мне не написала ни одной строки. Правда, Марина Ивановна?
– Правда, Володечка.
– Марина! Значит, вы его – не любите?
Я, полушутя: – Так люблю, что и сказать не могу. Даже в стихах – не могу.
– Меньше или больше, чем Юру?
(Володя: – Софья Евгеньевна!! Она: – Забудьте, что вы в комнате: мне это нужно знать – сейчас.)
Я: – Володя мой друг на всю жизнь, а Ю. А. ни часу не был мне другом. Володю я с первой минуты назвала Володей, а Ю. А. – ни разу Юрой, разве что в кавычках и заочно.
Сонечка, сосредоточенно, даже страдальчески:
– Но – больше или меньше? Больше или меньше?
– Володю – несравненно. – Точка.
– А теперь, Марина Ивановна, я решительно пойду.
И – пошло. Так же как раньше они никогда у меня не встречались, так теперь стали встречаться – всегда, может быть оттого, что раньше Володя бывал реже, а теперь стал приходить через вечер, а под конец каждый вечер – ибо дело явно шло к концу, еще не названному, но знаемому.
Отъезды начались – с Ирины.
– Дайте мне, барыня, Ирину с собой в деревню – вишь она какая чахлая. Да разве раздобреешь – с советского молочка? (Так в 1919 г. в Москве сами дети прозвали – воду.) А у нас молоко – деревенское, и при царе – белое, и без царя – белое, и картошка живая, не мороженая, и хлеб без известки. И вернется к вам Ирина – во-о какая!
Кухня. Солнце во все два окна. Худая, как жердь, владимирская Надя с принаряженной Ириной на руках. Перед ними – Сонечка, прибежавшая проститься.
– Ну, Ирина, расти большая, красивая, счастливая!
Ирина с лукавой улыбкой: – Галли-да! Галли-да!
– Чтобы щечки твои стали розовые, чтобы глазки твои – никогда не плакали, чтобы ручки что взяли – не отпускали, чтобы ножки – бегали… никогда не падали…
Ирина, еще никогда не видавшая слез, во всяком случае – таких, бесцеремонно ловит их у Сонечки на глазах.
– Мок-рый… мок-рый… Газ-ки мок-рый…
– Да, мокрые, потому что это – слезы… Слезы. Но не повторяй, пожалуйста, этого тебе знать не надо.
– Барышня Софья Евгеньевна, нам на вокзал пора, ведь мы с Ириной – пешие, за час не дойдем.
– Сейчас, няня, сейчас. Что бы ей еще такого сказать, чтобы она поняла? Да, няня, пусть она непременно молится Богу, каждое утро и каждый вечер, – просто так: – Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, Алю, няню…
Ирина: – Галли-да! Галли-да!
– И Галлиду, потому что она ведь меня никогда Соней не звала, а я не хочу, чтобы она меня забыла, я ведь в жизни так не любила ребенка, как тебя. – И Галлиду (Бог уже! будет знать!) – Няня, не забудете?
– Что вы, Софья Евгеньевна, да Ирина сама напомнит, еще все уши мне Галлидой прожужжит…
Ирина, что-то понимая, с невероятным темпераментом: – Галлида, Галлида, Галлида, Галлида, Галлида… (и уже явно дразнясь:) Даллига, Даллига, Даллига…
– Бог с тобой, Ирина! до Бабы-Яги договоришься! – А говорите – забудет! Теперь всю дорогу не уймется. Ну, прощайтесь, Софья Евгеньевна, а то вправду опоздаем!
– Ну, прощай, моя девочка! Ручку… Другую ручку… Ножку… Другую ножку… Глазок… Другой глазок… Лобик – и всё, потому что в губы целовать нельзя, и вы, няня, не давайте, скажите – барыня не велела – и всё.
Ну, прощай моя девочка! (Трижды крестит.) Я за тебя тоже буду молиться. Поправляйся, возвращайся здоровая, красивая, румяная! Няня, берегите!
Тут же скажу, что Ирина свою Галлиду, Галлида свою Ирину больше никогда не увидела. Это было их последнее свидание, 7-го июня 1919 года.
Но около пяти месяцев спустя Ирина, оставленная Сонечкой двух лет трех месяцев, свою Галлиду еще помнила, как видно из Алиной записи – в ноябре 1919 года.
«У нас есть одна знакомая, которой нет в Москве. Ее зовут Софьей Евгеньевной Голлидэй. Мы в глаза ее называем Сонечка, а за глаза Сонечка Голлидэй. Ирина ее взлюбила. Сонечка уезжала еще и раньше, а Ирина все помнила ее, и теперь еще говорит и поет: Галлида! Галлида!»
– Володечка, вы никогда не были в Марининой кухне?
– Нет, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, на Пасху.
– Господи, какой вы бедный! И никогда не видели Ирины?
– Не видел, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, тогда же – но она спала.
– Господи, как можно дружить с женщиной и не знать, сколько у ее ребенка зубов? Вы ведь не знаете, сколько у Ирины зубов?
– Не знаю, Софья Евгеньевна.
– Значит, это одна умственность, вы дружите с одной головой Марины. – Господи, у кого это была одна голова?!
– У нас с вами, Софья Евгеньевна.
– Дурак! Я говорю: одна голова, без ничего… Ах, это у Руслана и Людмилы! – Как мне бы от такой дружбы было холодно! Ледяной Дом какой-то… О, насколько я счастливее, Володя! У меня и нижняя Марина, хрустальная, фонарная, под синим светом как под водою, потому что ведь это – морское дно, а все гости – чудовища! – и верхняя Марина, над плитой, над пшеном, с топором! с пропиленным коричневым подолом, который – вот – целую! – уважаемая, обожаемая! И ведь только эти две – Марина, эти все – Марина, потому что я вас, Марина, не вижу – только в замке, только на башне…
– В свободное от башни время я пасла бы баранов…
Володя:
– И слушали бы – голоса.
По Сонечкиному началу с Володей я отдаленно стала понимать, почему мужчины ее не любят. Всякое недопонимание, всякое противоречие, даже всякое хотя бы самое скромное собственное мнение неизменно вызывало у нее: дурак! Точно этот дурак у нее уже был заряжен и только ждал сигнала, которым служило – все. С ней нужно было терпение, незамечание – Володины терпение и незамечание.
Я всегда провожала ее вправо, в сторону Поварской, уходящая Сонечка для меня была светающая Поварская, белая улица без лавок, похожая на реку, – точно никакого влево у моего дома не было.