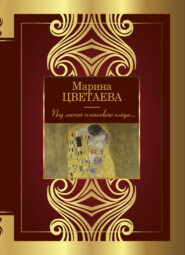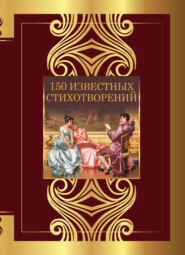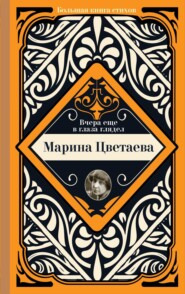По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Одна – здесь – жизнь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И я.
– Но, папа, ты же фальшивишь.
Он, покорно:
– Да, я фальшивлю, когда пою, но я пою так тихо, что меня не слышно, я только немного открываю рот.
– Но это же протестантские песнопения! (Наша ортодоксальная гувернантка, которая грезит о монастыре.)
– Да, протестантские. Но как прекрасны голоса и слова тоже. А потом пили кофе с молоком… А потом все уходят – до вечера.
– Но, папа, это, наверное, прибежище Армии спасения!
Папа миролюбиво:
– Может быть, но я не очень в это верю, поскольку за все время я не встретил ни одной женщины в форменном платье.
v Лавровый венок[29 - Перевод А. Эфрон.]
День открытия музея. Едва занявшееся утро торжественного дня. Звонок. Курьер из музея? Нет, голос женский.
Разбуженный звонком, отец уже на пороге зала, в старом своем, неизменном халате, серо-зеленоватом, цвета ненастья, цвета Времени. Из других дверей, навстречу ему – явление очень красивой, очень высокой женщины, красивой, высокой дамы – с громадными зелеными глазами, в темной, глубокой и широкой оправе ресниц и век, как у Кармен, – и с ее же смуглым, чуть терракотовым румянцем.
Это – наш общий друг: друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бдений моего взрослого брата и первых взрослых побед моей младшей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери, – Лидия Александровна Т., урожденная Гаврино, полуукраинка, полунеаполитанка – княжеской крови и романтической души.
Отец, разглядев посетительницу:
– Ради Бога, извините, Лидия Александровна! Я в таком виде… Не знал, что это вы, думал – курьер… Позвольте, я… (смущенно показывая на халат).
– Нет, нет, нет, дорогой мой, глубокоуважаемый Иван Владимирович! Так – гораздо лучше. В этот знаменательный день халат ваш похож на римскую тогу. Вот именно – тогу. Даже на греческий пеплум. Да.
– Но… (отец, конфузясь все больше) я, знаете, как-то не привык…
– Уверяю вас – настоящая тога мудреца! К тому же через несколько часов вы предстанете нам во всем своем блеске. Я так рано, потому что хотела первой поздравить вас с этим великим днем, самым прекрасным днем вашей жизни – и моей тоже. Да, и моей. В которой мне никогда ничего не дано было создать. Мне не было дано этого счастья. Поэтому я вас так и полюбила. Сразу полюбила. И буду любить – до последнего вздоха. За то, что вы – созидатель. Вот именно – созидатель. Я должна была первой поблагодарить вас за подвиг вашей жизни, за подвиг вашего труда. От имени России и от своего я принесла вам – вот это.
Перед ошеломленным отцом – лавровый венок.
– Позвольте, позвольте, позвольте…
– Наденьте его – сейчас же, тут же, на моих глазах. Пусть он увенчает ваше прекрасное, ваше благородное чело!
– Чело? Лидия Александровна, голубушка, я бесконечно тронут, но… лавровый венок… мне?! Это, право, как-то даже и некстати!
(В своей полнейшей отрешенности от внешнего отец и не задумывается о том, как может выглядеть лауреат в халате!)
– Нет, нет, нет, не спорьте! – посетительница, с вызовом на устах и со слезами на глазах. – Я должна увенчать вас, хотя бы на мгновенье!
И, пользуясь тем, что отец мой, движением смущенной благодарности, протягивает ей обе руки, она предательским, воистину итальянским жестом возлагает, нет, нахлобучивает ему на голову венок.
Он, отбиваясь:
– Прошу вас, не надо! Не надо!
Она, умоляюще:
– О, не снимайте! Он так вам к лицу!
И, со всей страстью восхищения (ибо восхищение – величайшая из ведомых мне страстей!) – целует его, – тридцатипятилетняя красавица – почти семидесятилетнего старика, в увенчанный лаврами лоб.
Мгновение спустя (венок уже снят и бережно положен на стол) просительница, все еще стоя и сжимая руки моего отца в своих:
– Хочу, чтоб вы знали: это – римский лавр. Я его выписала из Рима. Деревцо в кадке. А венок сплела сама. Да. Пусть вы родились во Владимирской губернии, Рим – город вашей юности (моей – тоже!), и душа у вас – римская. Ах, если бы ваша жена имела счастье дожить до этого дня! Это был бы ее подарок!
Отец мой скончался 30 августа 1913, год и три месяца спустя открытия музея. Лавровый венок мы положили ему в гроб.
1936
Москва, 1918–1920 гг. (дневниковые записи)
Мои службы
Пролог
Москва, 11-го ноября 1918 г.
– Марина Ивановна, хотите службу?
Это мой квартирант влетел, Икс, коммунист, кротчайший и жарчайший.
– Есть, видите ли, две: в банке и в Наркомнаце… и, собственно говоря (прищелкивание пальцами)… я бы, со своей стороны, вам рекомендовал…
– Но что там нужно делать? Я ведь ничего не умею.
– Ах, все так говорят!
– Все так говорят, я так делаю.
– Словом, как вы найдете нужным! Первая – на Никольской, вторая здесь, в здании первой Чрезвычайки.
Я —?!—
Он, уязвленный: – Не беспокойтесь! Никто вас расстреливать не заставит. Вы только будете переписывать.
Я: – Расстрелянных переписывать?
Он, раздраженно: – Ах, вы не хотите понять! Точно я вас в Чрезвычайку приглашаю! Там такие, как вы, и не нужны…
Я: – Вредны.